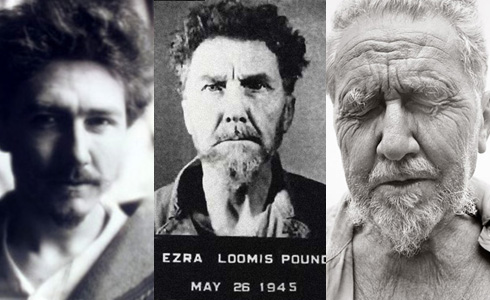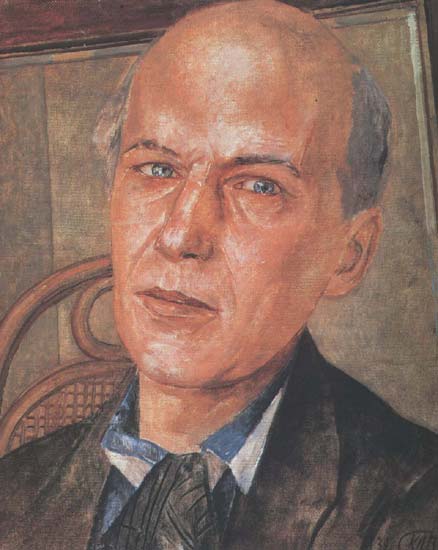Умер Евгений Головин
Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, О сайте Перемены.ру (новости и обновления), Опыты, Перемены, Трансцендентное Когда: 1 ноября, 2010 Автор: admin
29 октября умер поэт Евгений Головин.

Игорь Дудинский о Головине в интервью Переменам (2007 год):
Головин – действительно «фигура» весьма магнетизирующая, мистическая и «неоднозначная».
Достаточно вспомнить личностей типа того же Гурджиева, чтобы понять, с какими усилиями по-настоящему посвященные люди вписывались в «земную» систему координат. Отсюда и «неоднозначность» их восприятия непосвященными людьми.
Головин – величайший эзотерик современности. Он проштудировал и обобщил все эзотерические знания и учения всех веков и традиций, усвоил их и переварил в котле своего личного опыта.
Согласитесь, что такой огромный груз держать в своей голове, душе и сердце способны даже немногие из небожителей – не говоря уже о земных людях.
Отсюда, опять же, проблемы с восприятием людей с таким эзотерическим багажом.
Да, Евгений Всеволодович Головин (кстати, он жив и здоров, поэтому вполне доступен для контактов) способен при желании пускать в ход свой «магнетизм», интенсивность которого способны выдержать немногие.
Правда, он может закапризничать при виде неинтересного ему человека и забыть о собственном «магнетизме». Тогда он предпочитает притворяться кем угодно — хоть ловким мистификатором.
Головин – больше, конечно, алхимик, чем маг. Хотя бы потому, что в области магии он всегда признавал превосходство над собой недавно скончавшегося Валентина Провоторова.
Алхимию же он знает в совершенстве – насколько такое возможно, потому что в совершенстве алхимию не может знать ни один смертный. Скажем так: на сегодня алхимической теорией и практикой Головин владеет лучше, чем кто-либо из живущих на земле.
Головин одновременно и алхимик, и маг, и хорошо пьющий гениальный поэт, «который читал много эзотерической литературы». Впрочем, я не могу сказать, в каком из своих проявлений он негениален.
Антарктида
не поднимайте бровь —
над мысом катастроф
ползет шизоконечная звезда
лохматая волна
нам в ухо прошипит
электро-ледяное “да!”
на этих проклятых скалах
в обломках кораблей
мерцают генитальные мозги
и мы как дураки
ласкаем чей-то скальп
в надеждах субтропической любви
вдали от зодиака
злая лесбиянка
раскинулась нагая антарктида
но мы идем вперед
ебись она в рот
станция амундсен-скотт
и надо же было случится тому
что нас всего семь
и вслед идет невидимый восьмой
сквозь синие леса
мы смотрим на него
и вырываем бесполезные глаза