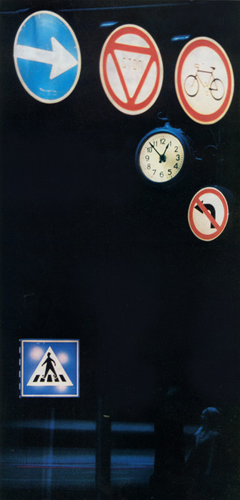Начало — здесь. Предыдущее — здесь.
За мыс печальный Меганон уходил четырехчасовой катер, имея в чреве своем четырех заспанных пассажиров — молодых людей, направляющихся в Судак, а оттуда пешком в Новый Свет. Стоп, читатель, — здесь много ошибок: во-первых, не в чреве, а на борту; во-вторых, конечно, не Меганон, а Меганом; в-третьих, молодых людей было пятеро и уехали они чуть позже на автобусе; да и опять же, первый катер отходит не в четыре, а в четыре с чем-то…
Ну, так значит, в четыре с чем-то утра по московскому времени среди дремотно-недвижного моря сидел я на стульчике водного велосипеда-катамарана, восхищенный созерцанием открывшейся вдруг панорамы Коктебельской бухты: слева, напрягая выступающую из тьмы мускулистую спину, виднелся потухший вулкан Кара-Даг; справа тоже что-то такое горбатилось, а посредине, в разжиженном мраке, парила луна, похожая на шлюпку потерпевших крушение мореходцев.
Я заработал ногами, направляя свое суденышко к берегу, и увидел, приблизившись, одинокого удильщика на причале и стоящее на пляже супружеское ложе Сидоровых.
Тут мне придется использовать несколько искусственный прием для передачи того, что произошло дальше. Представьте себе, что ложе на берегу вдруг стало расти, — стремительно расти вместе со своими обитателями. Это не так сразу укладывается в голове, но вот представьте себе… представьте себе, что ложе на берегу вдруг стало стремительно уменьшаться, — стремительно уменьшаться вместе со своими обитателями. И это — расти и уменьшаться — одновременно. Я увидел эти изменения так, как если бы, когда двоится в глазах, один предмет стал бы уменьшаться, а другой — увеличиваться.
Постепенно одно ложе стало со спичечный коробок, а другое — с пятиэтажный дом. Еще больше, еще меньше. Причем, по мере ростоуменьшения, скорость этого ростоуменьшения увеличивалась, и вот — то, что я видел, достигло таких размеров, что я уже не видел никакого ложа — ни большого, ни малого. Тогда я увидел обыкновенное ложе на берегу моря, и Сидорова пялила на меня свои широко открытые глаза. Но снова ростоуменьшение! Теперь все произошло значительно быстрее. Еще одно, еще, и еще, и еще!!! Сидоровы со своим ложем пульсировали в моих глазах все быстрее, быстрее, быстрее; и вот уже остались одни только вспышки; вот ничего не осталось… Только море, горы и рыбак на берегу.
Взошло солнце, пожрав последние клочья тумана. Я подплыл к рыбаку — у него было зеленое лицо, золотистые волосы и какая-то антенна вместо удочки.
— Эй! — крикнул я, и удильщик исчез.

***
Читатель, увы — я не мог позволить своей любви сделаться тем, чем она хотела бы быть, — не мог и отчаянно мучился этим. Но чем же она хотела бы быть? — невозможным: младенцем, убаюканным заботливыми руками; забытым городком на берегу теплого моря; пустыми пыльными улочками; сонными палисадами; огородом и связками овощей в чулане; рынком, наполненным всяческой снедью; трепещущими рыбами в корзинах; домашним вином; тихими семейными радостями, полудремотной идиллией — счастьем.
Конечно, Софья никогда мне ничего подобного не говорила — она, может быть, об этом никогда и не думала (да и что, спрашивается, она могла знать о любви?). Но разве для того, чтобы понять свою любовь, обязательно нужно с кем-то о ней говорить? — вовсе нет — нужно просто следить за ее наклонностями.
Мы забирались далеко в горы, любовались закатами, пили вино, загорали, купались, много болтали — короче, вели заурядную жизнь влюбленной пары, проводящей медовый месяц у моря. С удивлением обнаружил я, что возможна и для меня подобная жизнь, и жизнь эта начинала мне нравиться. Но, повторяю, столь пасторальная перспектива влекла меня, все-таки, очень уж мало: во-первых, мне казалось, что Софья никак не подходит для роли пастушки, а, во-вторых, я помаленьку начал уже нащупывать выход из своего божественного состояния.
Я все еще любил Софью — не думаете же вы, что я так непостоянен? — но, с другой стороны, сам-то я чего хотел от этой любви? поначалу, наверно, ничего — кто же об этом думает поначалу? Ну, а потом — когда стало понятно, что любовь укрывает от чуждых воздействий, — я спасался в ней от небесного странника, что, конечно же, было ошибкой: любовь сразу превратилась в нечто совсем другое. Понятно: запряженная любовь — уже не любовь.
Но кое-чего я достиг: многое осознал, выйдя из-под влияния цивилизации. И хотя эти осознания даже сейчас трудно представить в логически расчлененном виде, все же я мог уже действовать сознательно, а не наобум, как раньше, когда с каждым шагом все больше запутывался в сетях своего странного поклонника.
Если угодно так думать, можно представить себе, что я убежал сюда, под это южное небо любви, от моего небесного почитателя; хотя уже ясно: бежать от него — все равно что бежать от себя… В общем, после инцидента с Сидоровыми я старался не думать о страннике, боясь приманить его мыслью.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения