От редакции
Текст Олега Давыдова "Залог бессмертия и сценарий уничтожения поэта" - это психоанализ жизни и творчества Александра Пушкина, основанный на грезах его поэзии и на свидетельствах современников о некоторых странностях поведения Солнца русской поэзии. Текст написан с любовью к Пушкину и его произведениям, но истинным фанатам Александра Сергеевича лучше его не читать. Итак, в чем залог бессмертия уничтожаемого поэта....

Для начала почитаем, что пишут современники о Пушкине. Вот несколько примеров вперемешку: “Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа, ничего не обещающая” – “Я издали наблюдал это африканское лицо, на котором отпечатлелось его происхождение, это лицо, по которому так и сверкает ум” – “Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых, или лучше сказать стеклянных глазах его” – “Увидел – маленькую белоглазую штучку, более мальчика и ветреного шалуна, чем мужа” – “Глаза непременно остановят вас: в них вы увидите искры лучистого огня, которым согреты его стихи” – “Рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными губами, и чудесные голубые глаза” – “Невозможно быть более некрасивым – это смесь наружности обезьяны и тигра”.
Разумеется, каждый из очевидцев видел то, что видел (мог или хотел видеть), и разноречивые свидетельства о том, что, скажем, у Пушкина были “черные”, или “темно-русые”, или “каштановые” волосы говорят о невнимательности свидетелей. К тому же, если иметь в виду вещи более серьезные, чем цвет волос, разноречивость мемуаристов демонстрирует лишь их незнание обстоятельств жизни поэта в тот или иной момент. Но есть другие свидетельства – отчасти объясняющие вышеназванную разноречивость. Анна Керн вспоминает: “Он был очень неровен в общении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, – и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту”. Лицейский друг Иван Пущин подтверждает: “Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтение, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства”.

О чем говорят подобного рода свидетельства? В первую очередь – о некоей экстраординарной подвижности психики, о легкости при переходе от одного состояния души к другому. Тот же Пущин, пытаясь осмыслить эту подвижность, восклицает: “Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей!” Примечательно, что выражение, которое находит “первый друг” поэта (“внутренние наши двигатели”), напоминает терминологию некоторых разделов современной психологии. В частности, теорий, трактующих психику как динамику и взаимодействие множества “Я”, живущих в душе человека.
С точки зрения теории множественности “Я” стихотворение “Я помню чудное мгновенье: // Передо мной явилась ты, // Как мимолетное виденье, // Как гений чистой красоты”, обращенное к Анне Керн, и письмо Сергею Соболевскому, где говорится: “Ты <…> пишешь мне о мадам Керн, которую с помощью Божией я на днях ----”, – написаны от имени разных инстанций в душе поэта, разных его “внутренних двигателей”, разных “Я”.
Злобный гений
Как бы ни были многочисленны свидетельства современников, судить, основываясь только на них, о внутренней жизни и структуре души нашего поэта можно только гадательно. Гораздо более точную информацию можно извлечь из текстов самого Пушкина. Ведь эти тексты – как бы сны его души. В них структура его личности (взаимодействие его “внутренних двигателей”) отражается непосредственно. В частности – в виде литературных героев.

Возьмем для начала “Евгения Онегина” (далее “ЕО”). Никто и не говорит, что Онегин тождественен Пушкину, но сходство все-таки есть: “Страстей игру мы знали оба; // Томила жизнь обоих нас; // В обоих сердца жар угас; // Обоих ожидала злоба // Слепой Фортуны и людей.” В цитируемой строфе различие между автором и персонажем сводится лишь к тому, что Пушкин (Владимир Набоков этого героя “ЕО” проницательно называет “стилизованный Пушкин”) “был озлоблен, он (Онегин. – О. Д.) угрюм”. А когда через несколько строф автор радуется возможности “заметить разность” между собой и своим героем (“чтобы <...> какой-нибудь издатель // Замысловатой клеветы, // Сличая здесь мои черты, // Не повторял потом безбожно, // Что намарал я свой портрет”), эта «разность» сводится к тому, что Онегин хандрит в деревне, а Пушкин “был рожден <...> для деревенской тишины”.
Не слишком большая “разность”, особенно, если учесть, что в тот момент, когда А. С. писал это (1823 год), он любил деревню вполне платонически: плохо знал ее – может, помнил по эпизодическим посещениям, но толком еще не живал. Так что красочное описание “жизни мирной” здесь не реализм действительной жизни, а, скорее, смутное романтическое мечтанье в духе Ленского. “Тема восхваления деревни была в поэзии, вероятно, самым истоптанным общим местом”, – комментирует Набоков.

Вернемся, однако, к “разности”. Поначалу она, может быть, и существенна, но постепенно – как-то стирается. Пушкин признается: “Сперва Онегина язык // Меня смущал; но я привык // К его язвительному спору, // И к шутке, с желчью пополам, // И злости мрачных эпиграмм”. Далее, по мнению Набокова, могли следовать стихи, не вошедшие в окончательный текст: “Мне было грустно, тяжко, больно, // Но, одолев меня в борьбе, // Он сочетал меня невольно // Своей таинственной судьбе – // Я стал взирать его очами, // С его печальными речами // Мои слова звучали в лад”.
Если этот текст и действительно должен был следовать за описанием процесса привыкания Пушкина (хотя бы и “стилизованного”) к Онегину (точнее – к его языку, но ведь это и есть сам герой), то получается поразительная картина: сперва языковая повадка героя смущала автора, но потом он привык к ней. И наконец, после болезненной внутренней борьбы, Пушкин уже взирает на мир чужими глазами, а его слова звучат на чужой лад. Складывается впечатление, что не Пушкин создал образ Онегина, а наоборот – Онегин, проникнув в Пушкина, пересоздал его по своему образу и подобию. Но так не бывает. Конкретный образ вначале складывается в душе писателя, возникает из его “Я”.
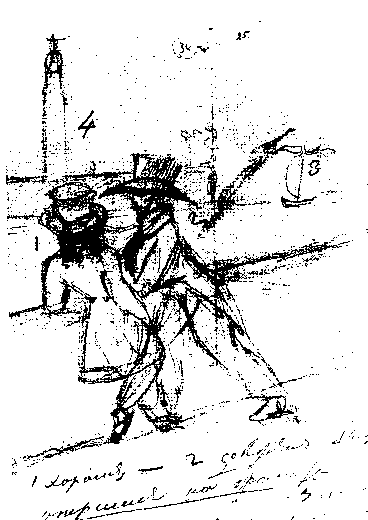
Для нас сейчас совершенно неважно, собирался Пушкин ставить текст о своей внутренней борьбе в контекст взаимоотношений с Онегиным или нет. Важно то, что перед нами взаимодействие двух “Я” в душе Пушкина, отразившееся в тексте “ЕО”. И вопрос только в том, вокруг какого из пушкинских “Я” кристаллизовался Онегин? И вокруг какого – тот страстный любитель деревни, “стилизованный Пушкин”, с которым мы сейчас имеем дело?
Это можно понять, если вспомнить, что стихотворение “Демон” (написанное в октябре или ноябре 23-го г., т. е. – приблизительно в то время когда писался цитированный выше конец главы 1 “ЕО”) имело то ли продолжение, не вошедшее в окончательный текст, то ли вариант, в котором Пушкин жалуется на то, что некий лукавый демон “навек соединил” существование поэта со своим, после чего: “Я стал взирать его глазами <...> // С его неясными словами // Моя душа звучала в лад” (почти полное повторение цитированного выше). Очевидно, в “Демоне” рассказано о пробуждении в душе Пушкина того “Я”, которое воплотилось и в его Онегине. Очень рано (“В те дни, когда мне были новы // Все впечатленья бытия”), когда молодому человеку “сильно волновали кровь” всякого рода “возвышенные чувства”, его стал навещать “какой-то злобный гений”. Надо особо обратить внимание на то, что опять-таки описывается как бы некое влияние со стороны: “Его улыбка, чудный взгляд, // Его язвительные речи // Вливали в душу хладный яд” (с демоническим ядом мы еще встретимся в “Моцарте и Сальери”).

Современники, как известно, немедленно узнали в этом демоне Александра Раевского, с которым Пушкин много общался в Одессе как раз летом 23-го. Но поэт не хотел, чтобы в его демоне видели какую-то конкретную личность, даже написал (хотя и не опубликовал) в 25-м году по этому поводу своего рода опровержение и одновременно – разъяснение. Там сказано: “В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существенности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души”. И тут же, продолжая и при этом говоря от третьего лица (в контексте разбора разных “Я” это особенно важно), Пушкин поясняет, что это не просто “чувство”, но существо: «Недаром великий Гете называет вечного врага человека духом отрицающим. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения...»

Может быть. Но только у Гете не найдешь такого описания проникновения чужого “Я” в душу человека, как у Пушкина. У нашего национального гения после того, как душа зазвучала в лад с демоническим словом, происходит полная подмена “Я”. Смотрите: “Взглянул на мир я взором ясным // И изумился в тишине; // Ужели он казался мне // Столь величавым и прекрасным?” Это еще взгляд прежнего “Я” (но уже сомневающегося), а вот сразу в следующих словах – взгляд уже другого “Я” (видится одновременно и мир, и прежнее “Я”): ”Чего, мечтатель молодой, // Ты в нем искал, к чему стремился, // Кого восторженной душой // Боготворить не устыдился? // И взор я бросил на людей, // Увидел их надменных, низких...» Это уже видит демон в душе человека, некое демоническое “Я”, вытеснившее другое “Я”, то, которому мир только что казался “величавым и прекрасным”, то, которое в собственно “Демоне” испытывало “возвышенные чувства” и прочее, то, наконец, которое выступало как “стилизованный Пушкин” в “ЕО”. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

ЧИТАЕТЕ? СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ >>