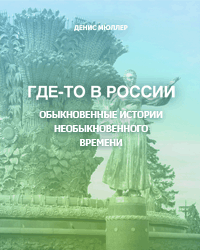НАЧАЛО РОМАНА ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА ЗДЕСЬ.

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов России принял Декларацию о суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
В тот день Дмитрий Брагин ощутил в себе всплеск бодрой, яростной энергии.
«Оказывается, я совершенно правильно расставил приоритеты в своей программе: сначала суверенитет, а потом все остальное. Пусть я проиграл тогда, но и без меня получилось так, как я хотел сделать. Выходит – моя голова работает не хуже, чем у мужиков, которые попали на Съезд. Могу заниматься большими делами, в масштабах страны, а не нашего зачуханного института. Прав Гришка, прав – надо в Москву перебираться, там настоящие возможности. Не получилось в лоб, на выборах – следует искать обходный путь. Хотя бы в негосударственной экономике, через того же Халепина. Экономика, в конце концов, базис, а политика – надстройка… Гришкец, конечно, и соврет – недорого возьмет. И его хваленое производство может оказаться каким-нибудь сараем, с двумя бетономешалками. Но деньги-то он обещает неплохие – я его за язык не тянул, сам цифру означил. Ничего, пусть даже и не так красиво окажется, как он расписывает. Даст начальную зацепку в Москве – и на том спасибо. А дальше мы сами, если понадобится, два на два перемножим»…
Он созвонился с Халепиным, договорился о встрече.
И они встретились в Энске – в той самой гостинице «Заречье», где кандидат в народные депутаты Брагин однажды беседовал с писателем Соляновым, также кандидатом в народные депутаты.
Совсем недавно это было, а уже казалось далеким прошлым. Теперь Солянов был народным депутатом, членом Верховного Совета РСФСР и, между прочим, активно поддержал Декларацию о суверенитете России. Писатель с неоднозначной репутацией быстро превращался в крупного политического деятеля, выступал в прессе, появлялся на телеэкранах…
«Даст Бог, еще встретимся с Ростиславом Андреевичем, и поговорим о судьбах русского народа» – подумал Брагин, шагая по коридорам гостиницы «Заречье» по направлению к номеру, в котором остановился видный московский бизнесмен Григорий Григорьевич Халепин.
Номер был из лучших – в нем имелся даже телефон с выходом на межгород. И в течение часа он несколько раз выдавал требовательные звонки.
Отрываясь от беседы, Халепин отдавал короткие, четкие указания: «Грузите в вагоны… Да, да, по накладным… Выставляйте предоплату. Реквизиты прежние…»
От Дважды Академика веяло большими делами, нарастающим богатством и могуществом. Но со старым другом он разговаривал запросто, не раздувая щеки, хотя и чувствовал себя хозяином положения.
- Димец, я и не сомневался, что ты присоединишься к нам. Молодец, что не затянул. Давай, руби концы в своем институте, и ко мне, в Москву. Хату обеспечу, и денег дам на первое время. Работы – невпроворот… Когда приедешь? К середке июля оторвешься? Чем раньше, тем лучше… Кстати, я теперь – дипломированный инженер-технолог. Диплом прекрасный, защитил на отлично! Так, что завтра отчаливаю, и любимый город Энск может спать спокойно – я сюда не скоро приеду, если приеду вообще…
***
И вот уже подписан приказ об увольнении Брагина Дмитрия Владимировича с должности старшего научного сотрудника НИИОМ, и выполнены все необходимые формальности, связанные с уходом из института.
Куплены билеты в Москву, и тяжелые чемоданы Брагиных отвезены в Энск, сданы в камеру хранения на вокзале. Утром они уедут из Велибора налегке, с малыми сумками.
В последний вечер пребывания четы Брагиных в Велиборе собрались все их друзья, институтские и прочие, кроме Петра Лескова, пребывавшего в Москве, да Липовского с Асей (они забегались накануне свадьбы – родственники молодоженов пожелали отпраздновать бракосочетание по всем правилам, с размахом).
Отвальную для Марины и Димы устроили не в тесной общаге, а на вольном воздухе – над Теребенью, на широкой прибрежной поляне большой костер развели, шашлыки зарядили. Первый тост подняли за отъезжающих. И в ожидании, когда мясо приготовится, прославленный бард всерайонного масштаба Серега Лопухин ударил по струнам гитары и запел:
Ой, дороги столбовые, мои древние,
Ой, вы кони вороные, мои верные…
Пашков и Брагин спустились к воде, сели на камни перекурить. Течет Теребень река, по-летнему ласковая. Шаловливые волны набегают, с берегом целуются. И солнышко вечернее деликатно в туман опускается, склоняя душу к доверительному разговору.
Многое говорено-переговорено меж добрыми друзьями за последние дни, и все же у Брагина находится серьезный вопрос к Пашкову:
- Бур, ты пока еще не сказал прямо, как относишься к тому, что я все здесь бросаю, и уезжаю. Не одобряешь?
- П-принимаю, как свершившийся факт. Одобрить или н-не одобрить мог бы, если бы знал, з-зачем ты, Дым едешь в Москву, на самом деле? Чтобы стать очень б-большим начальником, или за бешеными д-деньгами?
Слова Пашкова слегка царапают Брагина, и он отвечает с некоторым вызовом:
- Откровенно? И за тем, и за другим. Но не это главное. Понимаешь, хочу такого вот прорыва, вроде как на лыжной гонке, когда к финишу приходишь первым, или пусть не первым, но с хорошим результатом. Или вот в горах – идешь-бредешь по серпантину, весь в мыле, и выходишь на горушку – а внизу красота необыкновенная, и чувствуешь себя победителем…
- В-весь мир на ладони, ты счастлив и нем. А р-рядом еще одна горка, повыше – и т-туда охота забраться. З-знакомо, бывал н-на Кавказе.
- Вот, ты понимаешь. Настоящего, крупного успеха хочется. Оттого и невмоготу здесь.
- П-понимаю и одобряю. Т-только успех разный бывает. От иного сам потом рад отказаться… Б-был у меня эпизод, в студенческие в-времена… Правда из другой оперы, не из карьерной, а из любовной, значит, д-драмы. Ты т-только не смейся, з-забавная история, п-поучительная.
- Слушаю с вниманием.
- Влюбился я в однокурсницу, Лариса ее з-звали. И еще п-парень из наших к ней клеился, Максим. А она нас обоих привечала, н-не отдавая предпочтение ни одному. И вот у нее д-день рождения, она друзей собрала, н-нас в том числе. А жила она в коммуналке на Петроградской – старый такой район Ленинграда; ее родители квартиру п-получили в н-новом районе, и ей комнату оставили. Н-ну, погуляли гости д-до одиннадцати часов вечера, она в-вежливо со всем прощается – надо уходить, а то с-соседи будут возмущаться. А этот Максим – я заметил – еще раньше исчез. Думаю: н-наконец-то она ему отлуп дала, пора уже нам с ней объясниться. Куда там – ни минуты наедине, компания теплая, гвалт. Вышел я из дома, и д-досадно стало, что так с Ларисой и н-не поговорил. Постоял, пока н-наши убрались, подошел под ее окошко – Лариса н-на третьем этаже жила. А она ставни р-распахнула, стоит в халатике, в-волосы распущены. Отошла, а окно раскрыто – в-время летнее. Д-дом старый, стена в-выщерблена и рядом с ее окном – т-труба водосточная идет с крыши. А во дворике с-сирень цветет, такая чахлая, городская, н-но пахучая. Я вдруг – как н-на автомате – в-ветку сирени рву, и п-по стенке наверх лезу, к ее окошку. З-за трубу цепляюсь, а с-сирень в зубах. Н-не знаю, как и долез – этажи высокие. З-за подоконник уцепился, в комнату м-махнул. Она – Ой! – А я ей сирень протягиваю. «Боря – г-говорит – это мне? Как ты залез? Ты ведь мог разбиться. Ты это р-ради меня? Как я тебя люблю». И н-на шею мне вешается. А сбоку к-какой-то скрип вдруг раздался. Я т-туда очки п-повернул – без них у меня боковое зрение м-минимальное. И вижу – н-на ее койке Макс разлегся, ворочается, и в-вид у него растерянный. А она мне: «Оставайся, Боря со мной н-на ночь, и утром давай в загс пойдем, заявление подавать. А этого – махнула р-рукой на Макса – сейчас прогоним». Вроде бы, у м-меня полный успех. А т-такое внутри – будто током ударило. Отстранил ее, гляжу на нее – и б-больно мне, н-не сказать как. «Нет – говорю – у м-меня другие планы этой ночью». Вспрыгнул на подоконник, и вниз, н-на манер п-парашютиста-десантника, только без парашюта.
- И не разбился?
- П-почва мягкая была внизу, я н-на четыре точки приземлился, встал и п-пошел, хромая. И вся любовь. А ее, Ларису эту, и с-сейчас изредка вспоминаю, какой увидел т-тогда: халатик расстегнут, под ним кружевная рубашка, в-волосы черные до плеч, и глаза – такие огромные, синие-синие…
- Вот и у марсианки глаза большие, синие, и волосы до плеч, только рыжие – вырвалось у Брагина, неожиданно для него самого.
У Пашкова дернулись плечи, он кинул взгляд на Брагина, затем отвел глаза.
- М-молодец, уел.
- Да что ты, Бур, я же ничего, я просто так…
- Знаешь, Дымок, я д-давно п-подозревал, что о нас с Ликой ходят сплетни р-разного толка. Н-но если ты этим сплетням веришь, значит ты н-не друг мне.
- Бур, да что ты… Я и в мыслях не имел.
- Н-ну и ладно. З-закроем тему…
Плещет Теребень река, шелковыми водами берег ласкает… А разговор по душам не вышел. Они – друзья, конечно друзья, как и прежде. Но что-то вошло меж ними – нехорошее, разделяющее, тянущее в разные стороны.
И пора уже уходить от берега – их зовут к шашлыкам. А Серега Лопухин все поет и поет под гитару:
…Свобода приходит нагая,
Железные ветры над ней,
Ломает мосты, убегая,
Табун одичалых коней…
***
В конце июля – вскоре после отъезда Брагиных в Москву – над Велибором прогремели грозы, возвестив о приближении циклона, вторгшегося из Арктики. Жара спала, и небо все чаще окутывалось хмурыми дождевыми облаками.
Супруги Пашковы доделывали последние предотпускные дела, готовясь отбыть на юг – как обещали себе в трудный час, ранним утром 4 марта.
Внезапно к ним нагрянула гостья – сестра Любы, Вера, проживавшая в Кишиневе, с мужем, специалистом лесного дела.
Она рассказывала ужасные вещи, казавшиеся невероятными – но в их реальность приходилось верить:
- Мы столько лет жили среди молдаван, горя не знали – такой народ добрый, веселый. А года два назад началось – как будто с ума посходили. Вылезла из каких-то закоулков всякая шваль, на улицах то и дело толпы, с ором, с лозунгами: «Молдавия – молдаванам!», «Чемодан – вокзал – Россия!». Это нам, русским кричат, чтобы убирались. По городу ходим с оглядкой. Могут пристать, если увидят, что на русского похож; а не ответишь им по-молдавски – обхамят, а то и побьют. А мы-то всегда по-русски разговаривали, и проблем не было, все русский язык там знают. Но уж после выборов что началось – настоящий ад! Русских на работе стали притеснять, прогонять с хороших мест. Начальники все молдаване, все они – за Народный фронт – чистые националисты…
- Там у в-вас Снегур главный, он, кажется, коммунист? – осторожно поинтересовался Борис.
- Был коммунист снаружи, а внутри – чистый наци. Партбилет бросил, и нутро голое показал. Все они оказались наци, и коммунисты, и Народный фронт, не отличишь. Муж столько лет работал на своем месте, его всегда ценили, как специалиста. А теперь каждый день – нервотрепка. Он уже говорит: «Возьму свою двустволку и пойду в лес партизанить, гадов бить» А я ему: «Ты партизанить пойдешь, а как мне с детьми?» За детей ведь страшно. Наши многие уезжают из Кишинева на левый берег Днестра – в Тирасполь, Дубоссары, там Советская власть еще держится. Ну, а мы с мужем думали-думали и решили податься в Россию. Хотели в Ивангород сначала, но там мужу работы нет по специальности. А у вас область лесная, может, что и найдется. Муж дома остался с детьми, потому, что за них страшно, а меня на разведку послал. Боря, может, ты поможешь, подскажешь, куда обратиться?
Борис готов был помогать Вере, но как? Ведь он – остолоп, мямля – за столько лет жизни в Энской области так и не обзавелся связями среди влиятельных людей.
И вот он, Борис Пашков, руководитель исследовательской группы на правах отдельного подразделения, злоупотребляя служебным положением, привлек к решению своих личных дел подчиненную, Анастасию Романовну Липовскую, лаборанта группы.
Ася, со свойственным ей усердием, принялась обзванивать своих родственников, знакомых, потом родственников знакомых и знакомых родственников. В конце второго дня телефонных разговоров-переговоров, она сообщила:
- Есть место такое, лесхоз в Бабиной Горе. Надо там поговорить с людьми нужными. Карбасов Матвей Спиридонович – помнишь, капитан из милиции, очень строгий? – обещал посодействовать, а директор лесхоза ему шурин. Отпусти нас со Славой, завтра – дак мы, Боря, твою сестрицу Веру в Бабину Гору, в тот лесхоз отвезем, и урядить с директором поможем…
Вера вернулась из поездки – воодушевленная.
- Люди у вас прекрасные, отзывчивые! Директор предложил несколько мест на выбор, нашел в своем штате. И жилье дает. С неполными удобствами, правда – печку надо топить дровами, но это разве беда! И поселок мне понравился – неказистый, но уютный. Детям будет хорошо на природе, а мужу особенно. Он у меня совсем не городской, его всегда в лес тянет. Нет, не нужна мне больше Молдавия, надо нам, русским, жить в России!
Уехала Вера поднимать домочадцев с насиженного места…
Тысячи подобных историй случались тогда на необъятных просторах Страны Советов. Из республик, переставших быть братскими, масса русских людей устремилась на историческую родину, уходя от агрессивного эгоизма титульных наций, который уже не сдерживался державной волей Москвы. И заниматься этой проблемой было некому.
Горбачевское руководство Советского Союза день ото дня теряло влияние. Ельцинская команда еще только начинала закреплять в политической практике свою продекларированную суверенную власть в Российской Федерации…
***
Вырвавшись из накрытого циклоном Велибора в знойную Феодосию, Люба и Борис на время забыли обо всем, кроме краткосрочных радостей курортного существования. Погода стояла отменная, море не штормило, и денег они взяли достаточно для полноценного отдыха.
Но быстро пробежали беззаботные дни. На исходе третьей – последней недели пребывания в Крыму Пашков уже не мог отгонять мысли о своих институтских делах, которые он, вопреки обыкновению, оставил не в полном порядке, уезжая в отпуск.
Программа работ на последний отрезок года не была определена из-за неясности с источниками финансирования группы. Впрочем, подобное положение сложилось во всем отделе Булевина, да и во многих других подразделениях НИИОМ. Высокое начальство в Москве с самого начала года никак не могло определиться с объемом институтского госзаказа и порядком его оформления, а хоздоговора с предприятиями заключались туго – везде экономили средства, старались обходиться собственными силами в решении неотложных задач поддержания производства на необходимом технологическом уровне.
У Пашкова была одна крепкая тема, заранее проплаченная заказчиком, и уже фактически выполненная. За ее счет группа могла продержаться примерно до начала октября. И заведующий отделом обещал, что, как только решится вопрос с финансированием по основной тематике, поисковая группа получит свою долю – как и в прошлые годы. Поэтому руководитель группы не слишком волновался, отъезжая в Феодосию. Но к концу отпуска вдруг забеспокоился, и даже не поленился, позвонил Булевину.
Дядя Федя разговаривал как-то неохотно, но в общих словах обнадежил – все, мол, устроится, для этого он с директором едет в Москву. И посоветовал Пашкову спокойно догулять положенные дни.
Догулять – так догулять. У них с Любой еще остались в распоряжении два полных дня и две ночи. Все это время следует наполнить приятными ощущениями. Можно даже успеть в Судак съездить, посмотреть древнюю генуэзскую крепость (давнее желание Бориса). Или в Коктебель, где дом-музей Волошина (желание Любы). Конечно же, надо еще купить фруктов – килограммов двадцать, не меньше – сколько удастся увезти с собой. И утром, накануне отъезда, будет у них время поплескаться напоследок в ласковых волнах Понта Эвксинского…
А дела и тревоги начнутся потом – когда поезд увезет их вдаль от теплого морского берега.
***
Энск встретил чету Пашковых мелким, моросящим дождем, а галантный Липовский – пышным букетом для Любы.
До Велибора ехали, большей частью, молча. Супруги наговорились в поезде, а Саныч был полностью поглощен процессом вождения: дорога после недавних ливней имела предаварийный вид, а машины по ней шли густыми потоками в обоих направлениях.
Уже в конце пути Люба попросила остановиться у придорожного магазина, и выскочила из машины, чтобы купить хлеба, и чего под руку попадет, для первой домашней трапезы. Пашков и Липовский использовали это время для перекура, и сдержанный на язык капитан, наконец, заговорил о том, что его беспокоило:
- Васильич, ходят слухи, что нас разгоняют – нашу группу то есть.
Кажется, начинали сбываться тревожные предчувствия Пашкова. Но он постарался ободрить коллегу:
- Ничего, Саныч, Бог не выдаст, тютюка не съест. Схожу к начальству, узнаю, что там, постараюсь утрамбовать. Не в первый раз…
Вся верхушка Института материаловедения находилась в Москве – директор, его зам по науке, председатель СТК, заведующие научными отделами. В их отсутствии по институту носились разнообразные слухи, и вполне правдоподобные и совсем нелепые:
«Главк закрывают, и нас вместе с ним… Нет, нас не закроют, а передадут под Минобороны, там деньги есть. – Ну, начнется веселая жизнь: ать-два! – Зато порядок будет, как в армии. – Бросьте, в армии давно бардак… Переходим под юрисдикцию Российской Федерации, будем подчиняться правительству Силаева! – Но там нет своего научного ведомства. – Войдем напрямую в состав Министерства промышленности РСФСР. – Да это же бывший Местпром, кустари, бедные, как церковные мыши… – Институт закроют, а здание отдадут под СП с иностранцами…»
Наконец институтское начальство вернулось из столицы, но пробиться к Булевину сразу было невозможно: то он пропадал на бесконечных совещаниях у директора, то вызывал к себе, поочередно, заведующих лабораториями. До Пашкова очередь дошла не скоро…
***
- Проходите, Борис Васильевич, как отдохнули? Садитесь, в ногах правды нет. А может, нет ее и выше наших голов…
На лице дяди Феди – выражение суровой решимости, а речь вьется затейливо, издалека. Сначала – о самом главном, потом о всяком побочном, и лишь после нескольких маневров, вокруг да около, завотделом переходит к тому, что напрямую заботит его подчиненного.
Пашков заранее многократно продумал ситуацию, подготовил несколько вариантов разговора, может предложить конкретные идеи – но, кажется, все это уже не пригодится. В его мыслях проносится: «У Булевина неудобная обязанность – объявить приговор, который вынесен и пересмотру не подлежит. Остается только узнать содержание… И что это он так развозит вводную часть? Надоело…».
- Итак, нашей вышестоящей инстанции – главка – уже не существует. Часть предприятий распределяется по другим министерским структурам, а некоторые переходят в ведение Российской Федерации – правительство Силаева на этом настояло. В данной ситуации наш институт поначалу завис в воздухе. Вот этот вопрос мы решали в Москве, и решили, хотя не без потерь. Директор – надо отдать ему должное – добился приема у заместителя министра и убедил его оставить НИИОМ в составе министерства. Нам дают госзаказ, но обязывают провести корректировку структуры и резко сократить штаты. Резко сократить – я повторяю. При этом будут не только увольняться отдельные сотрудники, но также ликвидируются и некоторые подразделения. У Гракова целую лабораторию закрывают, у Райкова – две. Я добился сохранения обеих лабораторий нашего отдела – а вначале их требовали объединить. Считаю это значительным достижением…
«Все понятно, Федор Иванович. Вас хотели оставить без отдела, перевести в завлабы. Но вы – герой! – отстояли и удержали. И какой же ценой?»
- Директор требует, чтобы в планы включались только работы, непосредственно завязанные на производство. Поэтому в новой структуре института места для поисковой группы не находится. И спорить с этим бесполезно, Борис Васильевич. Все козыри сейчас в руках у Муралова, а он и слышать не желает о сохранении вашей группы.
- П-позвольте тогда спросить, а н-нельзя ли нам самим поискать хоздоговора н-на свое содержание? М-мы этого н-не делали раньше по в-вашему же настоянию, н-но, в принципе, м-можем. Или, насколько я п-понимаю, у администрации имеются не только финансовые п-причины для н-нашего закрытия?
- Раз понимаете, зачем спрашиваете? Итак, поисковая группа прекращает существование, ее сотрудники увольняются в установленном порядке, по сокращению штатов. Но лично вам, как ценному специалисту, я могу предложить эквивалентную должность в лаборатории Семенова, на их плановой тематике. И директор против этого не возражает.
«Ага, вот она, их задумка… Кажется в феодальной Японии была подобная практика наказания взбунтовавшегося самурая: сначала на его глазах истребляли родственников и друзей, а потом самого отдавали в руки умелого экзекутора. В роли последнего, в моем случае, выступит Семенов – мастер истязательного дела… Однако самурай еще может сделать себе харакири…»
- Борис Васильевич, это решение мне кажется разумным компромиссом, на который вы должны согласиться.
- Н-нет, Федор Иванович, н-не соглашусь. Д-давайте, лучше я подам з-заявление на увольнение по собственному желанию, например, с 1 октября, чтобы н-не поедать директорские деньги. И п-попрошу вас, оставьте моих с-сотрудников в институте. Зарплаты у них скромные, а работники они т-толковые и старательные. Н-не рубите крылья Леше и Косте, они же в-ваши аспиранты, и м-могут стать незаурядными исследователями. Липовский тоже, р-работник хоть куда. Оставьте их в институте, Федор Иванович, а я – уйду, и обиды н-на вас держать н-не стану!
- Я вас понимаю, Борис Васильевич. И уважаю ваше решение. Я постараюсь удержать ваших сотрудников…
***
Экран осциллографа ярко мигнул и погас. Перегорел старик, не выдержал режима многочасовой работы. Пора эту рухлядь на свалку, никто подобными уже давно не пользуется. Плохо, что последние точки на графике не удалось снять, но и без них данных хватает…
Пашков аккуратно отключил приборы стенда – один за другим, по инструкции, им же составленной много лет назад. Его душа пела и ликовала – результаты оказались неожиданны и великолепны. Концепция гетерогенного структурирования (так он это называл про себя) не только подтверждалась, но и уходила вглубь непознанного, где просвечивали интереснейшие феномены. Их природа может раскрыться при сопоставлении с данными из Карповского института… И, если все потом статистически обработать и обобщить, то… – Но куда это потом деть?
Ликующий хорал умолк – Пашков вспомнил, что он – уволен.
Его группа уже была расформирована.
Ася подала заявление на увольнение вместе с Пашковым. И ни одного лишнего дня не задержалась в институте. У нее забот много: сын, муж, старики – родители мужа, хозяйство, которое старикам вести не под силу.
Костю и Лешу перевели под начало Семенова, и тот сразу же отправил их в дальнюю командировку, куда-то под Саранск, в Мордовию.
Липовскому нашлась должность инженера-электрика на опытном производстве. К Пашкову он в эти последние дни не заходил – видимо, стеснялся, что не уволился из института солидарно с другом. Порывался вначале, но Ася ему не позволила.
Пашков трудился один, и так для него было даже лучше. Порой он думал о своих бывших сотрудниках: «Замечательная была команда! И работники, и друзья настоящие…» Вспоминал и аспирантку Безину: «Интересно, как у нее дела продвигаются?» Мог бы и позвонить ей в Энск, но зачем? Чтобы пожаловаться в трубку на свои горести, услышать слова сочувствия и ободрения? «Нет уж, пусть спокойно занимается диссертацией, а мы тут как-нибудь…»
Самая худшая беда для творческого человека, самое жестокое для него наказание – отлучение от любимого дела, от единственного дела, которому посвящена вся жизнь.
Хорошо математику – он свой творческий инструментарий носит в черепной коробке.
Неплохо и музыканту – на скрипке, или даже рояле можно играть и дома.
Ученому-естествоиспытателю свое лабораторное оборудование домой не унести.
Увольняясь из Института материаловедения, Борис Пашков фактически лишался возможности заниматься научной работой. Устроиться в соответствии со своей специальностью и квалификацией он мог не ближе, чем в Энске, а туда не наездишься, далеко и неудобно.
Куда теперь идти? Инженером на производство? Рабочим в цех? Грузчиком на склад? А может, уехать и начать с нуля на новом месте – как в студенческие годы – с двух чемоданов и съемной комнаты? Но возраст у них с Любой уже не студенческий…
Впрочем, Пашков в те дни особо не думал об устройстве на работу. До конца сентября он, с разрешения Булевина, имел возможность хозяйничать в своих подвальных комнатах, и постарался использовать это время, чтобы продвинуть по максимуму исследования, которыми занимался не один год. Зачем он это делал? Самого себя Пашков убеждал, что получаемые результаты еще понадобятся в будущем. А может быть, их уже сейчас хватит для задуманной некогда монографии… И критической половинкой своего рассудка он понимал, что все это вздор, мартышкин труд, никакой монографии ему, скорее всего, не написать, да и кому она нужна в нынешней ситуации, когда не до научных тонкостей – страна в кризисе, все валится, идет жестокая борьба за власть…
Наверное, он просто тянул время, не желая расставаться со своим подвалом – с пропахшим растворителями Эдемом, где провел долгие счастливые годы.
Но уже чувствовал – пора заканчивать. И назначил себе день ухода из института.
***
Последний день на рабочем месте. Обходной заполнен и сдан в отдел кадров, расчет в кассе получен, трудовая книжка на руках.
Пашкову осталось одно дело – собрать личные вещи.
В объемистую сумку, принесенную из дома, он сложил лабораторные журналы за последние годы. В них – бездна интереснейшей, полезнейшей информации, но здесь это никому уже не нужно… Лабораторный халат, кружка для чая, кипятильник – все в ту же сумку, места хватает. А вот еще бутыль с остатками спирта, кубиков четыреста – Любе пригодится… Взгляд его упал на самодельный тестер, который смастерил Липовский для проверки контактов. «Возьму на память, полезная вещь, и в описи приборов не числится».
Кажется – все. Теперь – присесть перед уходом, а можно и закурить, запрет снимается ввиду форс-мажорных обстоятельств.
Но вдруг – шаги в коридоре… Дверь шумно распахнулась – чудное виденье! – марсианка появилась на пороге.
У нее – растерянный взгляд, и голос испуганный.
- Боря, ты уже уходишь? Торопишься?
- М-можно и не торопиться. П-проходи, Лика, с-садись. Расскажи, как ты провела лето, м-мне ужасно любопытно.
Она села, немного успокоилась, стала рассказывать об Одессе, о своем брате, о возвращении в Энск, о том, как ухаживала за отцом после операции.
- Знаешь, Боря, я даже научилась делать уколы. Мама их раньше делала, но у нее зрение ослабло, и руки стали дрожать. А у меня рука твердая, натренирована от экспериментальной работы.
- М-молодец, умница. А как у тебя с з-защитой?
- Позавчера защитилась. Все прошло быстро, просто. Я даже поволноваться не успела. А потом стала звонить тебе в институт – и телефон не отвечает, не отвечает…
- Видимо, отключили выход на м-межгород, чтобы не н-наговорил лишнего, они теперь н-на всем экономят.
- Я позвонила одной девочке, и она сказала, что тебя уже… Что нашей группы уже нет. Ехала сегодня, и настроение такое, такое… Будто еду на похороны близкого человека.
- Т-ты видишь, я жив. Всего лишь уволили. Б-бывает.
Лика всхлипнула. Вытерла глаза.
- Прости, Боря. Я в последнее время то и дело реву. Особенно, когда вспоминаю, как мне было хорошо с тобой… И тебе ведь было хорошо, правда?
- Н-нам было хорошо вдвоем, Лика. Всегда б-буду вспоминать это с радостью.
- И я радуюсь, когда вспоминаю… Как мы в Ленинграде… Москву вспоминаю – радуюсь и плачу… Так было хорошо.
- Б-было замечательно, Лика. Я б-был счастлив с тобой в Москве.
- И я была счастлива. Там, на Речном вокзале, какие это были ночи! Я ведь была готова пойти на все, до самого конца. Скажи, Боря, а тебе хотелось этого? Ну, ты понимаешь…
- Оч-чень хотелось, д-до умопомрачения.
- А почему ты не стал… Почему этого у нас не случилось?
- Потому, что я люблю тебя, Лика. Сильно люблю, п-по настоящему.
Главные, волшебные – самые запретные слова сказаны. Теперь надо расстаться, чтобы, скорее всего, не встречаться больше.
Но Лика вся в слезах.
- П-посиди еще минутку, успокойся. Вытри глаза… Вот так… Идем потихоньку.
Первые шаги – до двери. Вышли. Ключ проскрипел в замке. По коридору – медленно. По лестнице – под руку, как влюбленные. Вестибюль, ключи сдаются на вахту – у Бориса и Лики нет больше своего места в институте…
И по вестибюлю – медленно, под руку.
Они вышли на крыльцо, и здесь Борис поцеловал Лику в губы, крепко и страстно, не опасаясь, что увидят – а кого бояться-то? Вскинул на плечо сумку и пошел прочь от родных институтских стен.
Обожженная поцелуем, она смотрела, как он уходит – своей обычной, нелепой, вихляющей походкой.
А он шагал, и мысли его свивались клубком.
Вот и Лику он потерял… Сплошные потери, придется к ним привыкать. И непонятно, что ждет впереди, что делать завтра, послезавтра? Впервые такое, за два с лишним десятилетия… А что вообще у него осталось? Семья, дом. И он сам – голова, руки, ноги. Его знания и опыт. Немало… И еще есть у него Россия – несуразная, не обустроенная, но великая страна, по-своему добрая к тем, кто в ней живет. Где-то в России ему, Борису Пашкову найдется подходящее дело. Жизнь продолжается, и она – прекрасна!
Энск – Москва, 2013 г.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДИЛОГИИ “ГДЕ-ТО В РОССИИ”, роман “В дни президента Ельцина”, НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
 www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века
www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века