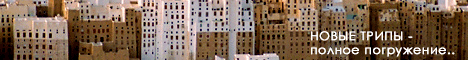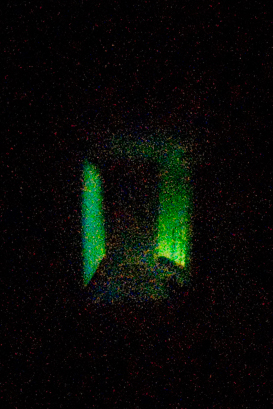Черный сказочник жил на окраине Города, в Запертом саду за высокой оградой. О нем в Городе ходило немало рассказов – в первую очередь потому, что никто толком не знал, что он из себя представляет. Истории эти были одна неправдоподобней другой, даже пересказывать тошно.
Калитка Запертого сада была, действительно, заперта, и кроме того, перед ней стоял невысокий, совершенно седой старик.
— Я к Чэ-Эс, – представился я. – Хотя, если честно, он меня не приглашал. Вы меня пропустите?
Старик не спешил с ответом. Он смотрел на облачко пара. Когда я начал говорить, оно вырвалось у меня изо рта, подлетело к воротам и растаяло: словно решило не входить.
— Хм. Сюда больше никто не ходит, — сказал привратник, глядя теперь куда-то поверх моей головы. Сухими пальцами, которые покрывали коричневые старческие пятна, он вставил ключ в ржавый замок, на который запирались ворота. Видимо, старик не собирался мешать мне войти, хотя и особого гостеприимства, видимо, ожидать не приходилось.
— Почему? Почему никто не ходит? – спрашиваю.
Было зябко, и я поплотнее закутался в свою куртку. Старик задумался. Я обернулся туда, откуда пришел. По дороге, которой я только что пришел, ветер гнал желтые листья. Иногда они падали в лужи и оставались там лежать – словно завороженные небом, которые в них отражалось. А в небе гигантскими цветками распускались черные тучи – словно кто-то акварелью красил по мокрому листу.
— Почему… Потому что иногда он съедал непрошеных гостей, – нехотя отозвался старик.
— Иногда? Значит, все-таки не всегда? – переспросил я.
— Дело в том, что иногда он съедал и прошенных тоже. – старик бросил смотреть поверх моей головы и принялся разглядывать свои собственные ботинки. Они были, как и он сам, очень старыми.
— Наверное, он был очень голодный, – предположил я.
Старик помолчал, как будто не слышал вопроса. Собственные ботинки ему, похоже, не нравились.
Наконец привратник пожал плечами:
— Да он почти никого и не приглашал. Но его тоже можно понять, – зажмурившись, словно что-то припоминая, пробормотал он, — и вдруг с неожиданной ловкостью и силой распахнул перед Принцем калитку Запертого сада.
— Добро пожаловать! — сухая улыбка мерцала на лице старика, так что было непонятно, шутит он или говорит серьезно, и если да, то насколько.
*
— Вы же тот самый старик из пустыни! – воскликнул я.
Черный сказочник хмыкнул.
— Мое «вы» – не то, что «вы» того мира, откуда вы пришли – проговорил он, улыбаясь в бороду. — Я говорю собеседнику «вы», потому что в каждом человеке – несколько людей. Обычно только один или двое из них живут «полноценно», но время от времени – приглядись! – проявляются и другие: им ведь тоже хочется посмотреть жизнь хоть одним глазком. На самом деле, в людях живут души всех существ, которыми они раньше были, а ведь их гораздо больше, чем живущих сегодня…
*
— Не переживай, – увещевал меня Сказочник. — Если уж носишь в себе загадку – своеобразный Гордый узел, – лучше попытаться ее распутать, чем быть разрубленным вместе с ней.
— Что такое Гордый узел? – спросил я, понял, что в моем образовании оставались некоторые пробелы. Неудивительно для человека, которого в восемь лет телепортировали в Цветной город.
— Хм. Гордый узел… — Сказочник внимательно посмотрел на свои ладони, словно узел был на них, — Ну, суть в том, что есть сложнейшая, с виду неразрешимая загадка, которую можно разгадывать всю жизнь – и не разгадать. Или разгадать… – Сказочник задумался на секунду, – А гордые люди вместо того, чтобы приступать к решению, размахнутся получше – и рубят мечом с плеча. Хм, да… Рубят, — если можно так выразиться, — сук, которые несут борзых щенков…
*
— А потом они жили долго, и умерли… Хм, да..
В воздухе, как летучая мышь вверх ногами, повисла долгая невеселая пауза.
— Это все? – я удивленно поднял брови. Пока старик рассказывал, у меня прямо все тело затекло. И тут такой дурацкий конец.
— Все, — Черный сказочник устало потянулся к столу, взял свою потухшую трубку и стал ее раскуривать. По комнате пополз дым. Табак был какой-то дорогой, но все равно паршивый. Через пару минут над головой у старика уже клубились зловонные тучи.
— Это какая-то странная история, — наконец нашелся я. – В ней же ничего не происходит!
— Ты хочешь сказать, что из нее словно бы нет выхода, – ответил Черный сказочник, – Но это не совсем так. В любом стекле, говорят, есть слабое место. Такая точка: ударишь в нее – и стекло расколется…
Вспомнив о чем-то, он отложил трубку и повернулся в сторону своего мини-бара, в котором поблескивали пузатые бутылки. – То же самое и с зеркалами.
— Даже с разбитыми? – переспросил я. Послышался легкий металлический хруст – это Сказочник свернул горло бутылке.
— С разбитыми – тем более. Ты можешь найти это слабое место – и тогда… М-м-м… Даже сам не знаю, что будет. Ну, по крайней мере, времени у тебя – хоть отбавляй. Хм. Да.
Сказочник с видимым удовольствием снова погрузился в свое глубокое кожаное кресло. Угнездился там, и взглянул изподлобья, словно старый седой Ворон.
Над головами у нас повисла тишина и сизый дым. Только слышно было, как дрова трещат в старом закопченном камине.
— Хочешь сказать, это все? – мой голос прозвучал как-то зябко – я, конечно, рассчитывал на информацию Сказочника, и тут такой подвох. К тому же, рассказ меня банально утомил. И еще, кажется, я начал по-настоящему понимать, что чуда не будет. По крайне мере, с его стороны.
— Ну вот, и перешли, наконец, на «ты», – криво улыбнулся старик.
Он пожал плечами, как будто оправдываясь в чем-то перед самим собой.
– Пожалуй, это все. Тебе пора. Не буду, правда, лгать, что здесь наши пути расходятся. Это было бы, мягко говоря, слишком оптимистично. Хм-да.
ЧэЭс встал, явно собираясь не затягивать с прощанием.
— На твоем месте я бы попробовал что-то новенькое. Например, предпринял бы попытку пересечь Безбрежное море на воздушном змее или, хм, спуститься глубоко в подвалы Города и вылезти на обратную сторону земли. Что-нибудь в таком ключе.
— Забавно, что ты сейчас упомянул про Ключ, — заметил я, пропуская его «гениальные» варианты мимо ушей. Прикинул: стоит ли открыть ему нашу с Олакрез маленькую тайну? Бросить старику эту кость? А потом подумал: может, он и так знает? — и ничего не сказал. Только заглянул в его выцветшие, словно бы поседевшие глаза – как у старого цепного пса.
Никакого понимания я в них не прочел. Ничего подобного.
*
Расскажу, как у нас появились эти странные имена – Принц и Олакрез. Понятно, мы их не сами себе придумали.
Мы стояли, взявшись за руки, в темноте, и смотрели друг на друга. Первый раз увиделись минуту назад, в этой пустыне, и тут же взялись за руки. Странно, правда? Вообще-то, нам тогда было не до формальностей, к которым так привыкли взрослые. Девчонка буквально ухватилась за меня, как будто я ее последний шанс на спасение – так что же мне было, вырываться?
Только я хотел рот открыть, и тут появляется этот старик. Мне показалось, что у него за спиной светит мощный прожектор – вроде тех, что используют в кино. Хотя, может быть, это были просто фары автомобиля, точно сказать не могу. Так вот, представьте себе картину: он возникает из ниоткуда, и смотрит на нас этак со смыслом – не сказать, чтобы враждебно, но и без симпатии. Забегая вперед, скажу, что старик вообще всегда так смотрел – как будто вы у него что-то попросили, что ему самому нужно позарез. А брови у него были густые, как у военного – две такие толстые черные гусеницы.
Мы только собирались у него спросить, что, собственно говоря, происходит, как он возникает и говорит: тебя, дескать, зовут Принц – и указывает на меня – а тебя, девочка, Олакрез. Я сразу поинтересовался:
— А вас, дедушка?
— Меня зовут Черный сказочник, – на полном серьезе плюхнул он. Cказал, как отрезал. И с этими словами испарился. Как будто ластиком стерли. Он мне с первого взгляда не понравился, а потом эта, как бы сказать… антипатия! – только окрепла.
Так вот, по поводу имен. Мы почему-то сразу, будто бы в шутку, стали называть друг друга именно так, как сказал старик с большими бровями. «Принц» и «Олакрез». А потом привыкли. И только долгое время спустя меня словно окатило: а как по-настоящему? То есть, как нас ДО ЭТОГО звали? Мы оба забыли, и пусть только кто-нибудь мне скажет, что это совпадение! То есть, это старик придумал нам тогда имена, понимаете?
То, что Черный сказочник не только одарил нас этими чудаковатыми кличками, а вообще придумал от начала и до конца – это я понял уже только ближе к концу нашего совместного приключения. Нашей истории, можно сказать – раз уж я взялся писать дневник, как будто бы собираюсь его кому-то показывать. А то, что я начал историю с конца – это как раз нормально. Там, куда мы попали, все было шиворот-навыворот, и это меня полностью устраивало.
В первую минуту после пробуждения – или, вернее, после рождения, – мы, конечно, жутко испугались. Темнота была такая, словно тебя заперли в черном-черном доме в черном-черном туалете, и свет выключили. Ну, — думаю, — попали в переплет. Представляете, каково это: не то ослепнуть, не то провалиться в чертову черную дыру – а тут еще кто-то в двух шагах от меня ка-ак завизжит! Впрочем, я быстро понял, что это просто какая-то девчонка, тоже попала. Ну вот, — думаю, — по крайней мере, не одному мне тут загибаться в темноте. А что за девчонка, кстати? Повод познакомиться – лучше не придумаешь. В такой адской темноте, по крайней мере.
— Эй, ты! – окликнул я ее как мог дружелюбно.
— Ты кто? – отвечает, а сама так и готова наброситься на меня со страху, и кулачки что есть мочи сжала, – это мне по голосу так показалось, а видеть я ее, конечно, не мог.
Тут-то мы и увидели нашего старикана.
В свете прожектора – или что это уж там ни было – я успел немного разглядеть не только его гусеничные брови, но и физиономию моей невольной спутницы. На вид лет двенадцать – то есть, как минимум на три класса старше, чем я. Одета, как в поход: армейского вида штаны с кучей карманов, небольшой рюкзак и ветровка с капюшоном. А из-под капюшона – соломенного цвета пряди. И еще, знаете, такой бесноватый блеск в глазах, какой бывает у людей в минуту опасности.
Она, в свою очередь, тоже зыркнула на меня – и опять повернулась к старику. А когда наш колдун исчез, вокруг снова стало темно. Но уже не так, как раньше – абсолютная темнота словно посерела. И главное, на горизонте, далеко-далеко от нас, появился желтый огонек – будто звездочка зажглась. Могу поспорить, что ее раньше не было! Дальше –больше, думаю, и все пытаюсь осмыслить наши «новые» имена.
– Ну, пойдем, – показываю на огонек, – туда, – говорю, – уважаемая _Олакрез_.
– Пойдем конечно, куда же мы денемся, _Прекрасный Принц!_ – отозвалась она насмешливо, и при этом крепко ухватилась за мою руку.
*
Мы, наконец, увидели нашу «золотую звездочку». Она оказалась – что бы вы думали? – солнышком размером с хороший арбуз, которое, как котлета на сковороде, шкворча и плюясь жиром, прыгало на большущей сковороде. Сковорода стояла на печи, которую мне почему-то сразу захотелось назвать «алтарем». Я осторожно дотронулся до алтаря – холодный. Открываю топку – а оттуда как дунет снегом! Целый сугроб намело. Я поскорее закрыл дверцу. Смотрю в недоумении на Олакрез – а она только головой покачала, словно что-то поняла.
Тут я заметил, что сбоку на алтаре висит этакий странный дуршлаг – ущербная луна из серебрга, со множеством дырочек. Я снял дуршлаг с крючка, повертел в руках – тяжелый, еле удержишь. Я попробовал представить, что можно мыть в таком дуршлаге – ну, только звезды!
Хотел показать дуршлаг Олакрез, и тут смотрю – она стоит с другой стороны плиты, сама не своя – наклонилась вперед, напряглась вся, капюшон откинула, пальцы сжаты в кулачки, губы в трубочку… И смотрит на это горящее солнце, прямо глазами пожирает! Глаза вытаращила так, словно это два блюдца – даже, две тарелки, я бы сказал. И блеск в них такой странный, как у кошек в темноте. Мне тут даже пришло в голову, что она пьет солнечный свет этими своими блюдцами: жадно, взахлеб, как будто только этого ей и надо было! По ней, правда, непохоже было, чтобы она получала удовольствие. Она побледнела вся, и коленки трясутся, и с каждой минутой вроде как хуже. Мне пришло в голову: она пьет свою жажду, и что-то в этом роде.
Честно сказать, это я все потом уже начал понимать, а тогда ни на что такое просто не было времени. Я сразу даже не сообразил, что таких глаз у нормальных людей просто не бывает. Хотя, наверное, эта Олакрез мне с самого начала не казалась «нормальной». У нее просто на лице было написано: я не от мира сего, и ко мне лучше не подходи. Этим она мне как-то сразу очень понравилась. Ну, вы наверное сами знаете, как это бывает.
— Слушай, а ты не… – начал я.
Но тут она, совсем потеряла терпение, – так мне показалось, – и опустила лицо туда, в солнце – словно в раковину, полную воды.
У меня прямо внутри все похолодело, – я представил, как зверски она сейчас обожжется. И внезапно совсем ничего не стало. Ни солнца на сковородке, ни посеревшей темноты вокруг, ни Олакрез – ни меня, в каком-то смысле. Был только ветер, и полет, и я был частью этого.
А потом мы оказались в Городе.

 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения