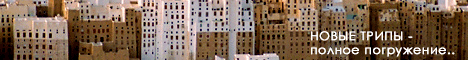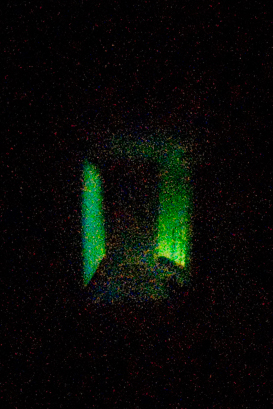П. и О., привлеченные неземным сиянием, подошли вплотную. Девочка запрокинула голову, чтобы посмотреть вверх, и тут же зажмурилась, закрыв глаза руками.
– Кажется, пришли, – только и мог сказать Принц. Оларкез, не поднимая головы, кивнула.
Но теперь надо было как-то попасть внутрь. Ослепительно сверкавшая белым золотом ограда, прутья решетки которой уходили в самое небо, была бы, казалось, и рада пустить путешественников, но двери не было видно нигде.
Дом Сказочника был таким большим, – он возвышался над оградой, как Титаник над причалом, – что сначала его было даже не осознать. Кирпичи стен все время складывались в новые фигуры, перетекая по стене, словно кубик рубика, в который закачали вирус тетриса, а в окнах плавали русалки. Дом был странным, словно из другой сказки.
Принц показал пальцем на дымоход, из которого, медленно закручиваясь лентой Мёбиуса, один за другим вылетали черные, как сажа, вороны. В потоке горячего ветра с пустыни они кружились, ни слова ни говоря, словно водоросли подсознания. Стая с нарастающим ускорением уходила в раскаленное звонко-бирюзовое небо, и скоро растаяла совсем.
– Камин у меня барахлит, – как бы невзначай заметил из-за золотой загороди совершенно голый старик с такой большой головой, что она свисала сзади ему на спину.
– О.. – охнула Олакрез.
– П.. – вырвалось у Принца.
Путешественники воззрились на пришельца.
Слегка напоминая фильмы про «Чужих», морщинистый лоб старца свисал ему сзади на плечи до самых стоп, покоившихся в сверкающих бриллиантовых сандалиях. Сандалии были украшены двумя медными пряжками в форме букв D и G, переплетенных на манер Инь-Янь. Выше коленей начиналась белоснежная борода, переходившая на уровне плечей в длинный тонкий нос с благородной горбинкой. Глаза, сидевшие глубоко, как жемчужины в океане мудрости, на троне из фиолетовых теней бессонной ночи, сияли и лучились лазерным звездным огнем.
– Мыслитель, – уважительно подумал Принц.
– Гуманист, поди, – беззвучно прошептала Олакрез.
Явно отметив произведенный эффект, старец задумчиво продолжил:
– Это музыкальный камин. Расстроен последнее время…
– Последнее время многие расстроены! – вспомнив свою миссию, Принц озабоченно махнул рукой в сторону Города. И тут же сам понял, что проблемы поселения не более 100 тысяч человек, отделенного Пустынной Пустошью и Бескрайним Морем от этого мирного края, вряд ли беспокоят старика.
– Ваш камин расстроен? – поддержала тему Олакрез. – Как это?
– А так. Когда человек, не умеющий играть, скажем, на пианино, садится за инструмент и начинает бряцать по клавиатуре – что получается?
– М-м-м… Какофония?
– Верно. Зато когда за инструмент садится мастер – получается музыка… Так и с моим пианино.. то есть, камином, – он сейчас очень расстроен. Отого и вороны.
Принц негромко хмыкнул.
– А кто из него вылетает, когда он настроен как надо?
– Да-да, – словно не расслышав вопроса, продолжал гнуть мыслитель. – Каждый ведь расстраивается по-разному. Двери выходят из себя, повара – огорчаются, а воинствующие люди бывают неприятно поражены. Несчастливый брак – рас-траивается. Или расчетверяется, как посмотреть. Вернее, не как, а когда. С людьми ведь что получается – на короткий период они, конечно, могут быть счастливы, а бесконечно – никогда. Ну и то сказать, в каждый момент времени все мы чертовски одиноки, как эти вороны, каждый из которых летит, заметьте, каждый сам по себе. Так, скажем, бьет сама по себе автоматическая молотилка! Только люди бьют сами по себе не молотом, а своими мыслями, которые, кстати сказать, могут быть совсем чужими. Ну, впрочем, что-то я тут разговорился, пора заговариваться уже…
Принц задумчиво покачал головой. Ему решительно не нравились бриллиантовые сандалии старца, с пряжками или без. Он не мог оторвать одного глаза от головы мудреца, а другого – от листьев на деревьях вокруг дома. Листья были цвета вороненой стали, и в центре каждого листка мерцал голубой глаз. Кое-где между листьев блестели румяные медные яблоки.
– Ну что же, заходите на файф-о-клок, – пригласил старец и, прошептав что-то в глубине бороды, раздвинул прутья решетки. – Меня, между прочим, зовут Черный Сказочник.
П. и О. зашли внутрь.
– Принц, – удивленно оборачиваясь на толстые прутья, которые поспешили принять прежнее положение, протянул руку П.
Но Сказочник, отмахнувшись от руки, просто обнял его. Олакрез целомудренно воздержалась от приветствий.
– А почему черный? – освободившись от объятий, спросил Принц.
– Потому что Белого никто, можно сказать, толком не видел, – уклончиво ответил старик. – Так что я за него.
Путешественники задумались на ходу. Спелое медное яблоко глухо упало в траву и разлетелось на куски.
– Что это за лужайка у вас такая, странная? – спросил Принц, которого Сказочник нежно вел за руку к дому.
– А что? – удивился Сказочник.
– Ну смотрите, это же не трава свосем. Как будто гвоздей просто понабивали в землю, – развел свободной рукой Принц.
– А, это. – Старец показал свои золотые зубы. – Я немного поколдовал с травой, и она теперь растет в обратную сторону.
– То есть, уменьшается? – удивилась Олакрез.
– Нет, скорее ВРАСТАЕТ в землю. Вниз головой. Вверх корнями. – Пояснил Сказочник. – Она, к сожалению, была острая, как гвозди, даже сандалии не помогали. Но что вы хотите от железной травы?
Олакрез ничего не хотела.
– Зато стричь не нужно! Такая морока, поверьте, – улыбнулся Сказочник, и потрепал Принца по голове. – А вот моя гордость – Грибоцвет!
Принц и Олакрез обернулись в указанном направлении и воззрились на непонятную психоделическую конструкцию из того, что казалось помесью гигантской мухи и радужного мухомора. Конструкция, часто дыша и брызгая ярко-золотым соком, тоже воззрилась на путешественников.
Что-то погладило Принца по голове, а Олакрез почувствовала, как взлетает над собствнной макушкой. Но тут намозоленная тяжелым советским детством точка сборки сообщила путешественникам, что перед ними – просто немного странная детская площадка, приготовленная грузином-бульдозеристом под снос. Правда, с трепещущего фиолетового с зелеными прыщами языка горки между оранжевых клыков-качелей на ржавых цепях, качавших сами себя тонкими детскими руками, то и дело срывались и со свистом капали на исписанные бранными словами скамейки тяжелые капли горящей голубой протоплазмы. Избушка на курьих ножках, кряхтя и сочясь дымом через глубокие морщины, изрыгала вихри временных искривлений в завораживающий звездный калейдоскоп гипер-песочницы. В горку жидких кристаллов были воткнуты извивающиеся пластиковые совочки ушедших в двухмерное пространство детей, отдельные пиксели которых все еще назойливо кружились вокруг, словно мухи, пытаясь собраться в цельное изображение. Бодрая мелодия Первого канала гостелерадио, жирными кипящими пузырями выливаясь из пасти деревянного Степашки, трогала до глубины души своими нежными прохладными щупами с набалдашниками из шоколадных конфет на конце. И над всей этой красотой и гармонией, над счастливой детской площадкой, которую тщательно смял и раскатал тяжелым асфальтоукладочным катком бульдозерист Армен, стояла вечная благоуханная съедобная радуга, пахнувшая не то рогаликами за десять копеек, не то жареной картошкой с первой пепсиколой, не то вкладышем от жевачки «бабл-гам»…
Почувствовав участвившийся пульс Принца, Сказочник поспешил набросить черный платок на клетку Грибоцвета. – Молодые побеги нерассказанных сказок, всего-то, – пояснил он. – Ни к чему сразу так надолго задерживать дыхание.
– НесказАнных? – смахнув непрошенную слезу, переспросил Принц.
– Нет, конечно. – Сказочник мудро улыбнулся из-под мохнатых бровей. – НесказАнные сказки растут только в саду Грейп, а здесь – хотя мой скромный цветник тоже ничего – поспешил добавить он – они бы непременно засохли. Так что я ограничился нерассказанными. Да…
– А чем их надо поливать, эти несказАнные сказки? – спросил почему-то Принц.
Черный сказочник закрыл глаза, погрузившись ненадолго в медитацию.
– Хороший вопрос. Только про несказАнные сказки лучше ничего не говорить – такой уж это сорт. Впрочем, ты же сам мог их видеть, в саду Грейп, где ты сорвал Яблоко.
Принц взволнованно покачал головой. – Нет, не помню… Мы оттуда так быстро бежали, там пожар начался, что я даже не успел…
– Так вот это самое то и было! – перебил его Сказочник, открыв блестящие глаза с золотыми ресницами. – Как бежали, помнишь? Вот это ведь и были побеги. А «молодые» – потому что ведь и вы не старики.
Олакрез улыбнулась.
– А вам сколько лет, дедушка, можно спросить?
– Я… стар, – задумчиво, нараспев, промолвил мыслитель. – Как… звезды… – Тень вселенского сострадания пробежала по морщинистому лбу Сказочника с головы до пят и спряталась в пряжках сандалий. – И молод, как человечество! – лукаво подмигнул он Олакрез, обнимая ее свободной рукой.
Потеряв под шумок сухую ладонь старика, Принц только улыбнулся – одной из своих странных улыбок, почерпнутых им в бездонных путешествиях по этой странной Странне. Улыбкой, которая не сходилась ни с одним словом из тех, которые он знал.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения