Если Вы попали на эту страницу, ожидая найти одну из глав проекта "Места Силы/Шаманские Экскурсы", это означает, что требуемую главу Вы сможете прочитать только в том случае, если приобретете соответствующий том книги "Места Силы" в электронном или бумажном
виде. Прочитать эту главу Вы сможете пока что только внутри книги (на сайте она по-прежнему будет заблокирована, даже если Вы купите книгу). Чтобы понять, к какому из томов относится интересующая Вас глава, прочитайте чуть ниже краткое описание каждого тома. Там же Вы найдете и ссылки для покупки книг.
«Мистическая география России» —
так Олег Давыдов сформулировал суть своего проекта «Места Силы Русской
Равнины», когда в 2004 году начал странствовать по просторам Русской
Равнины и находить, исследовать и описывать то, что называл «Местами
Силы». Вторая часть «Мест Силы» носит подзаголовок «Шаманские Экскурсы» и
повествует о глубинной подоплеке некоторых мистических явлений,
связанных с Местами Силы. Вот краткое содержание каждого из томов, со ссылками на соответствующие страницы магазина, где эти тома можно приобрести:
Том Первый (Содержит Места силы с Первого по
Тридцатое)
Том Третий (Содержит Места силы с Шестьдесят первого по Девяностое)
Том Четвертый (Содержит
Места силы с Девяносто первого по Сто одиннадцатое, а также «Шаманские
экскурсы»: "Теменос", "Ци", "Фюсис", "Бардо", "Оракул", "И", "Стило Жар-птицы")
Том Пятый На бумаге - на Вайлдберриз. (Шаманские Экскурсы о Льве Толстом и духовных
коллизиях его пути и произведений. Главы с "Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Я и Ся" по "Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (13.Гроза)")
Том Шестой (Шаманские Экскурсы о Карле Густаве Юнге, т.е. Главы с "Места силы. Шаманские экскурсы. Карл Юнг. Her Jesus" по "Места силы. Шаманские экскурсы. Карл Юнг. На грани")
ПОДРОБНЕЕ О КАЖДОМ ТОМЕ:
ТОМ ПЕРВЫЙ
Первый том содержит Места силы с Первого по
Тридцатое (то есть начиная с места "Адрианова Слобода" до места "Махрище", подробнее - см. ниже). Полные версии текстов. Черно-белые иллюстрации. Также в этот том вошло интервью Олега Давыдова, посвященное проекту "Места силы", которое он дал газете "Московский корреспондент" в 2007 году.
Купить книгу "Места Силы Русской Равнины. Том 1" в электронном формате по этой ссылке.
В бумажном виде книгу выгоднее покупать на Вайлдберриз.
ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БУМАЖНОЙ КНИГИ ПО РОССИИ НА RIDERO СОСТАВЛЯЕТ 345 рублей. ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ КАКУЮ-ТО ДРУГУЮ СУММУ ЗА ДОСТАВКУ, ПРОСТО ВВЕДИТЕ СВОЙ АДРЕС, И ОНА ПОМЕНЯЕТСЯ.
Полный список Мест, вошедших в Первый том:
1. Адрианова слобода
2. Двенадцать ключей
3. Исток Оки
4. Жабынец
5. Рябинина Пустынь
6. Урочище Жаровка
7. Чистое болото
8. Худынское
9. Дьяконова поляна
10. Остров Коневец
11. Устье Кубены
12. Верюга
13. Умиление
14. Тиксненский погост
15. Недума-река
16. Оковец
17. Волосово
18. Перынский холм
19. Нурма
20. Никандрова пустынь
21. Теребени
22. Флорищи
23. Светлояр
24. Пощупово
25. Желтоводье
26. Серапионова Пустынь
27. Новый быт
28. Филипповское
29. Колоцкое
30. Махрище
ТОМ ВТОРОЙ
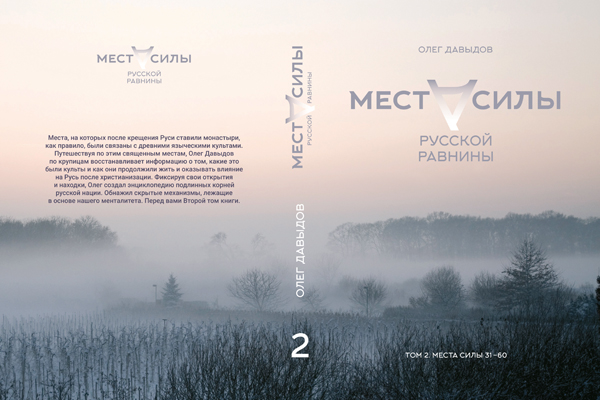
Второй Том шеститомного издания книги Олега Давыдова «Места силы
Русской равнины / Места Силы. Шаманские Экскурсы». Содержит Места силы 31–60 (названия мест см. в таблице выше). Полные версии текстов. Черно-белые фотографии и иллюстрации.
Книгу в электронной версии можно купить в магазине Ridero (здесь >>).
Книгу в бумажной версии выгоднее покупать в магазине Вайлдберриз.
Полный список Мест, вошедших во Второй том:
31. Ферапонтово
32. Низовья Нары
33. Берлюковская пустынь
34. Крыпецы
35. Лукьянцево
36. Сельцо Карельское
37. Остров Столобно
38. Боровичи
39. Валдай
40. Зарайск
41. Колюпаново
42. Горки Ленинские
43. Санаксырь
44. Рыльск
45. Епифань
46. Костомарово
47. Елезарово
48. Козье
49. Исток Непрядвы
50. Сия
51. Чертово Городище
52. Ижеславль
53. и 54. Кушта и Сямжена
55. Княжая Пустынь
56. Тиуновское святилище
57. Оптина пустынь
58. Ферапонт
59. Бабье озеро
60. Шамордино
Покупать Второй Том в электронном виде лучше здесь.
А в бумажной версии выгоднее покупать в магазине Вайлдберриз.
ТОМ ТРЕТИЙ
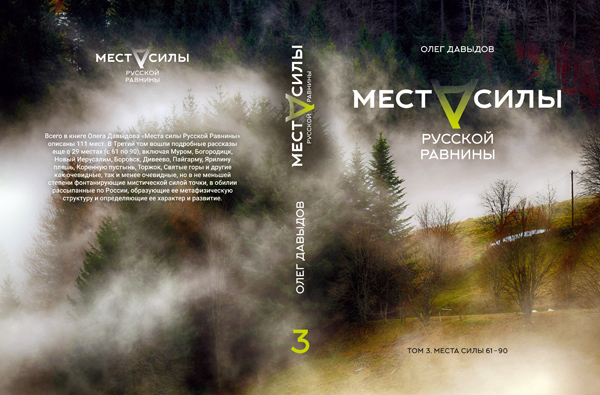
В Третий том вошли подробные рассказы об еще 29 Местах (с 61 по 90), включая Муром, Богородицк, Новый Иерусалим, Боровск, Дивеево, Пайгарму, Ярилину плешь, Коренную пустынь, Торжок, Святые горы и другие как очевидные, так и менее очевидные, но в не меньшей степени фонтанирующие мистической силой точки, в обилии рассыпанные по России, образующие ее метафизическую структуру и определяющие ее характер и развитие. Полные версии текстов. Черно-белые фотографии и иллюстрации. Купить электронное издание можно здесь. Бумажное - здесь.
Полный список Мест, вошедших в Третий том:
61. Монахов ров
62. Муром
63. Бабья гора
64. Солотча
65. Варнавино
66. Святые горы
67. Клоп
68. Лев-Толстое
69. Дунилово-Горицы
70. Екатерининская пустынь
71. Старо-Голутвин
72. Новый Иерусалим
73. Макарьев
75. Теряев Дорок
74. Боровск
76. Череменецкое озеро
77. Исток Дона
78. Дмитриевская гора
79. Пайгарма
80. Дивеево
81. Богородицкий парк
82. Ярилина плешь
83. Торжок
84. Дивногорье
85. Учма
86. Сора
87. Ошевенск
88. Овинова слобода
89. Кириллов
90. Коренная пустынь
Купить Том Третий в электронном виде можно здесь. На бумаге - здесь.
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

В Четвертый Том вошли Места силы с 91 по 111, а также первая часть работы «Шаманские экскурсы», которая вытекла непосредственно из «Мест силы», когда возникла необходимость систематизировать и объяснить некоторые из находок и открытий, сделанных в ходе работы над проектом, и подвести под них научно-метафизическую теоретическую базу. В этот том (помимо номерных Мест силы) вошли следующие экскурсы:
Места силы. Шаманские экскурсы. Стило Жар-птицы
Места силы. Шаманские экскурсы. И (2)
Места силы. Шаманские экскурсы. И (1)
Места силы. Шаманские экскурсы. Оракул
Места силы. Шаманские экскурсы. Бардо
Места силы. Шаманские экскурсы. Фюсис
Места силы. Шаманские экскурсы. Ци
Места силы. Шаманские экскурсы. Теменос
Также в этот том вошел текст "Дымок Отечества", закрывающий тему непосредственно поездок по Местам силы.
Полный список Мест силы, вошедших в Четвертый том:
91. Жижицкое озеро
92. Старая Рязань
93. Оять
94. Свирская слобода
95. Тотьма
96. Любим
97. Болдино
98. Старица
99. Коряжема
100. Выша
101. Задонск
102. Тихвинка
103. Глушица
104. Боголюбово
105. Чёлма
106. Старые Печеры
107. Радонеж
107. Сергиев Посад
108. Важозеро
109. Касимов
110. Пельшма
111. Волговерховье
Приобрести Четвертый том в виде ебука можно по этой ссылке.
В виде бумажной книги - здесь.
ТОМ ПЯТЫЙ
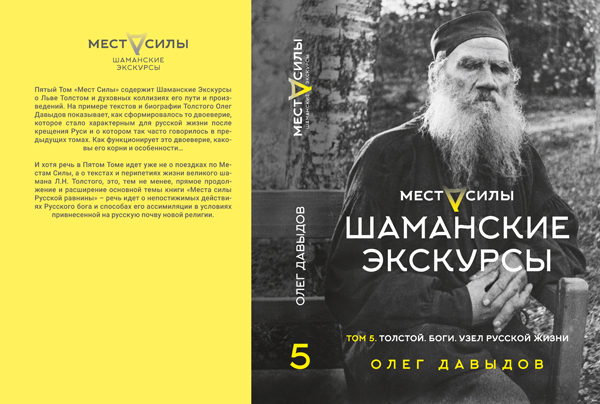
Этот Том содержит Шаманские Экскурсы о Льве Толстом и духовных
коллизиях его пути и произведений. На примере текстов и биографии
Толстого Олег Давыдов показывает, как сформировалось то двоеверие,
которое стало характерным для русской жизни после крещения Руси и о
котором так часто говорилось в предыдущих томах. Как функционирует это
двоеверие, каковы его корни и особенности…
И хотя речь в Пятом Томе идет уже не о поездках по Местам Силы, а о
текстах и перипетиях жизни великого шамана Л.Н. Толстого, это, тем не
менее, прямое продолжение и расширение основной темы книги «Места силы
Русской равнины» — речь идет о непостижимых действиях Русского бога и
способах его ассимиляции в условиях привнесенной на русскую почву новой
религии. Приобрести этот том в виде ебука можно по ссылке. На бумаге - на Вайлдберриз.
Полное Содержание этого тома:
Шаманские экскурсы. Ростов. Я и Ся
Шаманские экскурсы. Ростов. Ся и Я
Шаманские экскурсы. Ростов. Кунь
Шаманские экскурсы. Толстой и смерть
Шаманские экскурсы. Толстой и бог Кафки
Шаманские экскурсы. Толстой и сатори (Левин)
Шаманские экскурсы. Толстой и Род
Шаманские экскурсы. Толстой и Дерево
Шаманские экскурсы. Толстой и Непротивление
Шаманские экскурсы. Толстой и Дитя
Шаманские экскурсы. Толстой и Сумрак (1. Детство)
Шаманские экскурсы. Толстой и Сумрак (2. Старчество)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (1. Оживленность)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (2. Соитие)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (3. Весы)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (4. Узел)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (5. Треугольник)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (6. Власть)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (7. Азбука)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (8. Домовой)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (9. Мужик)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (10. Контрацепция)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (11. Тартюф)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (12. Другая)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (13. Гроза)
Для ознакомления мы оставляем в открытом доступе первые пять глав книги (главы "Кунь" в книге сведены в одну главу):
Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Я и Ся
Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Ся и Я
Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Кунь (1 – 3)
Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Кунь (4 – 6)
Места силы. Шаманские экскурсы. Толстой и смерть
Места силы. Шаманские экскурсы. Толстой и бог КафкиОстальные главы можно прочитать, купив книгу в электронном виде или заказав бумажный экземпляр. Приобрести этот том в виде ебука можно по ссылке. На бумаге - на Вайлдберриз.
ТОМ ШЕСТОЙ
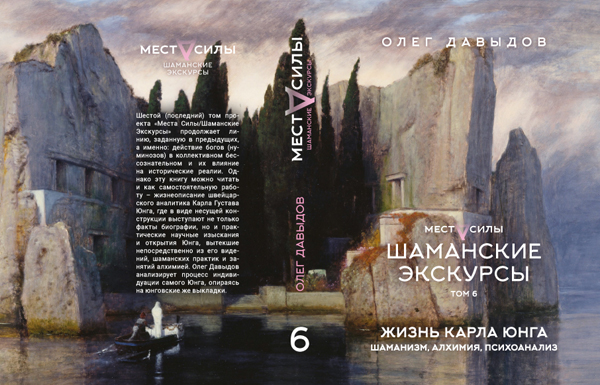
Шестой (и последний) том проекта «Места Силы/Шаманские Экскурсы». Этот фолиант (566 стр.) продолжает линию, заданную в предыдущих, а именно: действие богов (нуминозов) в коллективном бессознательном и их влияние на исторические реалии. Однако эту книгу можно читать и как самостоятельную работу – жизнеописание швейцарского аналитика Карла Густава Юнга, где в виде несущей конструкции выступают не только факты биографии, но и практические научные изыскания и открытия Юнга, вытекшие непосредственно из его видений, шаманских практик и занятий алхимией. Олег Давыдов анализирует процесс индивидуации самого Юнга, используя юнговские же выкладки, в том числе на его легендарную визионерскую «Красную книгу».
Подробнее о книге.
Купить бумажную книгу «Места Силы/Шаманские Экскурсы. Том 6. Жизнь Карла Юнга».
Купить ебук «Места Силы/Шаманские Экскурсы. Том 6. Жизнь Карла Юнга».
Полное Содержание этого тома (на сайте в открытом доступе оставлены только первые 11 глав, названия которых выделены в этом списке курсивом; прочитать их можно последовательно, кликнув по названию первой главы):
HER JESUS
КАЛ БОЖИЙ
НЕЧТО ПОТУСТОРОННЕЕ
ВЫПУСТИТЬ ПТИЧКУ
ПРЕОДОЛЕВАЯ ФРЕЙДА
ФРЕЙД СНОВИДЕНИЙ
СЕМИТЫ И АРИЙЦЫ
ДУХ ГЛУБИН
УБИЙСТВО ЗИГФРИДА
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ РЕАЛИИ
ЭНЕРГЕТИКА АРХЕТИПА
АРХЕТИПИКА ЭНЕРГИИ
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
МАГИЯ ФИЛЕМОНА
ИЗ ЖИЗНИ МЕРТВЕЦОВ
НАСТАВЛЕНИЯ МЕРТВЫМ (ПЛЕРОМА)
НАСТАВЛЕНИЯ МЕРТВЫМ (АБРАКСАС)
НАСТАВЛЕНИЯ МЕРТВЫМ (ВРАТА БОГОВ)
ШАМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ
ПОСВЯЩЕНИЕ
БАШНЯ
ЛИВЕР (1. ДЕРЕВО)
ЛИВЕР (2. ТРОИЦА)
ЗАРОДЫШ БЕССМЕРТИЯ
МИСТИЧЕСКАЯ СОПРИЧАСТНОСТЬ
ОТВЯЗАННОЕ СОЗНАНИЕ
АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС
ЛИБИДО И АРИСТОТЕЛЬ
ДУХОПРИРОДА
ВОТАН
ТИНКТУРА САМОСТИ
НА ГРАНИ
Купить бумажную книгу «Места Силы/Шаманские Экскурсы. Том 6. Жизнь Карла Юнга».
Купить ебук «Места Силы/Шаманские Экскурсы. Том 6. Жизнь Карла Юнга».
____________________
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА ИЗДАНИЯ "МЕСТ СИЛЫ":
О выходе Первого тома, а также Предисловие к Первому тому
Ответ всем недовольным закрытием многих глав Мест силы на сайте
Сборник ярких цитат из проекта МЕСТА СИЛЫ
ЧИТАЕТЕ? СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ >>