«Мистическая география России» —
так Олег Давыдов сформулировал суть своего проекта «Места Силы Русской
Равнины», когда в 2004 году начал странствовать по просторам Русской
Равнины и находить, исследовать и описывать то, что называл «Местами
Силы». Вторая часть «Мест Силы» носит подзаголовок «Шаманские Экскурсы» и
повествует о глубинной подоплеке некоторых мистических явлений,
связанных с Местами Силы. Подробнее о шеститомнике по этой ссылке. А чуть ниже - краткое содержание каждого из томов, со ссылками на соответствующие страницы магазина, где эти тома можно приобрести.
Том Первый (Содержит Места силы с Первого по
Тридцатое)
Том Второй (Содержит Места силы Тридцать первого по Шестидесятое)
Том Третий (Содержит Места силы с Шестьдесят первого по Девяностое)
Том Четвертый (Содержит
Места силы с Девяносто первого по Сто одиннадцатое, а также «Шаманские
экскурсы»: "Теменос", "Ци", "Фюсис", "Бардо", "Оракул", "И", "Стило Жар-птицы")
ПОДРОБНЕЕ:
Первый Том
шеститомного
издания книги Олега Давыдова «Места Силы Русской Равнины / Места Силы.
Шаманские Экскурсы».
Первый том содержит Места силы с Первого по
Тридцатое. Полные версии текстов. Черно-белые иллюстрации. Вот краткое предисловие редактора этого проекта - Глеба Давыдова >>
Если вы не находите на сайте Peremeny.ru какого-либо из Мест силы и ссылка на него ведет на эту страницу, это означает, что оно теперь доступно только для тех, кто приобретет книгу в электронном или бумажном виде (на данный момент - только внутри этой книги, но не на сайте). В выпуск книги вложены определенные ресурсы, и мы хотели бы, чтобы эти вложения окупились. Надеемся на ваше понимание.
Купить книгу "Места Силы Русской Равнины. Том 1" в электронном и бумажном формате по этой ссылке.
ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БУМАЖНОЙ КНИГИ ПО РОССИИ НА RIDERO СОСТАВЛЯЕТ 345 рублей. ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ КАКУЮ-ТО ДРУГУЮ СУММУ ЗА ДОСТАВКУ, ПРОСТО ВВЕДИТЕ СВОЙ АДРЕС, И ОНА ПОМЕНЯЕТСЯ.
Второй Том
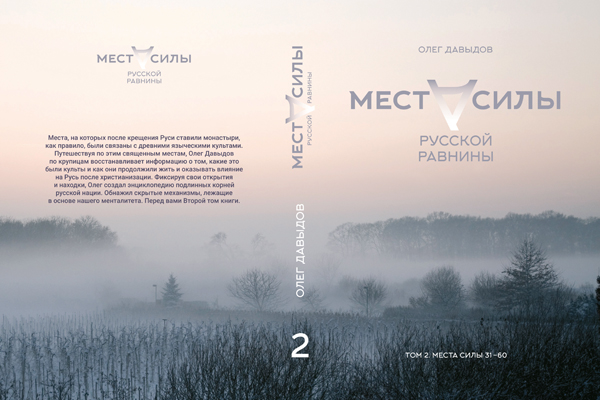
Второй Том шеститомного издания книги Олега Давыдова «Места Силы
Русской Равнины / Места Силы. Шаманские Экскурсы». Содержит Места силы 31–60.
Книгу в мягкой обложке и в электронной версии уже
можно купить в магазине Ridero (здесь >>).
Третий Том
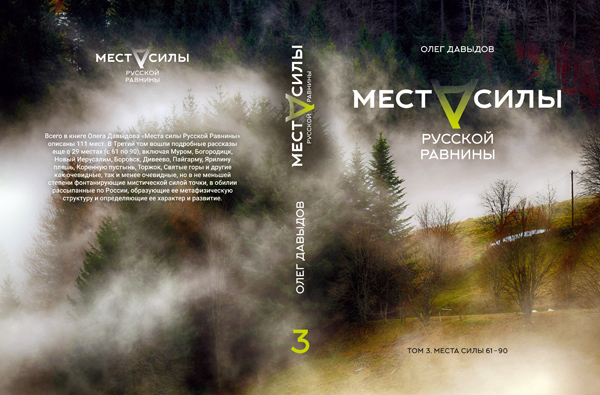
Вышел Третий Том книги «Места Силы Русской Равнины». Всего в книге Олега Давыдова «Места силы Русской Равнины» описаны 111 мест. В Третий том вошли подробные рассказы о 29 из них (с 61 по 90), включая Муром, Богородицк, Новый Иерусалим, Боровск, Дивеево, Пайгарму, Ярилину плешь, Коренную пустынь, Торжок, Святые горы и другие как очевидные, так и менее очевидные, но в не меньшей степени фонтанирующие мистической силой точки, в обилии рассыпанные по России, образующие ее метафизическую структуру и определяющие ее характер и развитие. Купить бумажное или электронное издание можно здесь.
Том Четвертый

В Четвертый Том вошли Места силы с 91 по 111, а также первая часть работы «Шаманские экскурсы», которая вытекла непосредственно из «Мест силы», когда возникла необходимость систематизировать и объяснить некоторые из находок и открытий, сделанных в ходе работы над проектом, и подвести под них научно-метафизическую теоретическую базу.
Напоминаем: eсли вы не находите на сайте Peremeny.ru какого-либо из Мест силы и
ссылка на него ведет на эту страницу, это означает, что оно теперь
доступно только для тех, кто приобретет книгу в электронном или бумажном виде (на данный момент - только внутри этой книги, но не на сайте). В выпуск книги вложены определенные ресурсы, и мы хотели бы, чтобы эти вложения окупились. Надеемся на ваше понимание.
Приобрести Четвертый том можно по этой ссылке.
Том Пятый
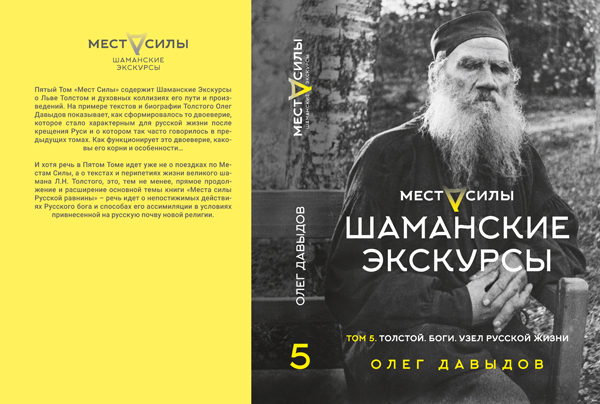
Этот Том содержит Шаманские Экскурсы о Льве Толстом и духовных
коллизиях его пути и произведений. На примере текстов и биографии
Толстого Олег Давыдов показывает, как сформировалось то двоеверие,
которое стало характерным для русской жизни после крещения Руси и о
котором так часто говорилось в предыдущих томах. Как функционирует это
двоеверие, каковы его корни и особенности…
И хотя речь в Пятом Томе идет уже не о поездках по Местам Силы, а о
текстах и перипетиях жизни великого шамана Л.Н. Толстого, это, тем не
менее, прямое продолжение и расширение основной темы книги «Места силы
Русской равнины» — речь идет о непостижимых действиях Русского бога и
способах его ассимиляции в условиях привнесенной на русскую почву новой
религии. Приобрести этот том можно по ссылке.
Полное Содержание этого тома:
Шаманские экскурсы. Ростов. Я и Ся
Шаманские экскурсы. Ростов. Ся и Я
Шаманские экскурсы. Ростов. Кунь
Шаманские экскурсы. Толстой и смерть
Шаманские экскурсы. Толстой и бог Кафки
Шаманские экскурсы. Толстой и сатори (Левин)
Шаманские экскурсы. Толстой и Род
Шаманские экскурсы. Толстой и Дерево
Шаманские экскурсы. Толстой и Непротивление
Шаманские экскурсы. Толстой и Дитя
Шаманские экскурсы. Толстой и Сумрак (1. Детство)
Шаманские экскурсы. Толстой и Сумрак (2. Старчество)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (1. Оживленность)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (2. Соитие)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (3. Весы)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (4. Узел)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (5. Треугольник)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (6. Власть)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (7. Азбука)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (8. Домовой)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (9. Мужик)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (10. Контрацепция)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (11. Тартюф)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (12. Другая)
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна (13. Гроза)
Для ознакомления мы оставляем в открытом доступе первые пять глав книги (главы "Кунь" в книге сведены в одну главу):
Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Я и Ся
Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Ся и Я
Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Кунь (1 – 3)
Места силы. Шаманские экскурсы. Ростов. Кунь (4 – 6)
Места силы. Шаманские экскурсы. Толстой и смерть
Места силы. Шаманские экскурсы. Толстой и бог КафкиОстальные главы можно прочитать, купив книгу в электронном виде или заказав бумажный экземпляр. Приобрести этот том можно по ссылке.
Том Шестой
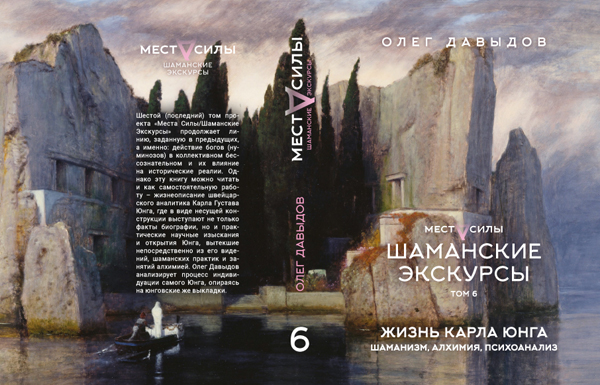
Шестой (и последний) том проекта «Места Силы/Шаманские Экскурсы». Этот фолиант (566 стр.) продолжает линию, заданную в предыдущих, а именно: действие богов (нуминозов) в коллективном бессознательном и их влияние на исторические реалии. Однако эту книгу можно читать и как самостоятельную работу – жизнеописание швейцарского аналитика Карла Густава Юнга, где в виде несущей конструкции выступают не только факты биографии, но и практические научные изыскания и открытия Юнга, вытекшие непосредственно из его видений, шаманских практик и занятий алхимией. Олег Давыдов анализирует процесс индивидуации самого Юнга, используя юнговские же выкладки, в том числе на его легендарную визионерскую «Красную книгу».
Подробнее о книге.
Купить книгу «Места Силы/Шаманские Экскурсы. Том 6. Жизнь Карла Юнга».
Полное Содержание этого тома (на сайте в открытом доступе оставлены только первые 11 глав, названия которых выделены в этом списке курсивом):
HER JESUS
КАЛ БОЖИЙ
НЕЧТО ПОТУСТОРОННЕЕ
ВЫПУСТИТЬ ПТИЧКУ
ПРЕОДОЛЕВАЯ ФРЕЙДА
ФРЕЙД СНОВИДЕНИЙ
СЕМИТЫ И АРИЙЦЫ
ДУХ ГЛУБИН
УБИЙСТВО ЗИГФРИДА
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ РЕАЛИИ
ЭНЕРГЕТИКА АРХЕТИПА
АРХЕТИПИКА ЭНЕРГИИ
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
МАГИЯ ФИЛЕМОНА
ИЗ ЖИЗНИ МЕРТВЕЦОВ
НАСТАВЛЕНИЯ МЕРТВЫМ (ПЛЕРОМА)
НАСТАВЛЕНИЯ МЕРТВЫМ (АБРАКСАС)
НАСТАВЛЕНИЯ МЕРТВЫМ (ВРАТА БОГОВ)
ШАМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ
ПОСВЯЩЕНИЕ
БАШНЯ
ЛИВЕР (1. ДЕРЕВО)
ЛИВЕР (2. ТРОИЦА)
ЗАРОДЫШ БЕССМЕРТИЯ
МИСТИЧЕСКАЯ СОПРИЧАСТНОСТЬ
ОТВЯЗАННОЕ СОЗНАНИЕ
АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС
ЛИБИДО И АРИСТОТЕЛЬ
ДУХОПРИРОДА
ВОТАН
ТИНКТУРА САМОСТИ
НА ГРАНИ
ЧИТАЕТЕ? СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ >>