Наивысшие Упанишады. Том 1. Ознакомительный фрагмент. 1.
21 сентября, 2025
АВТОР: Глеб Давыдов
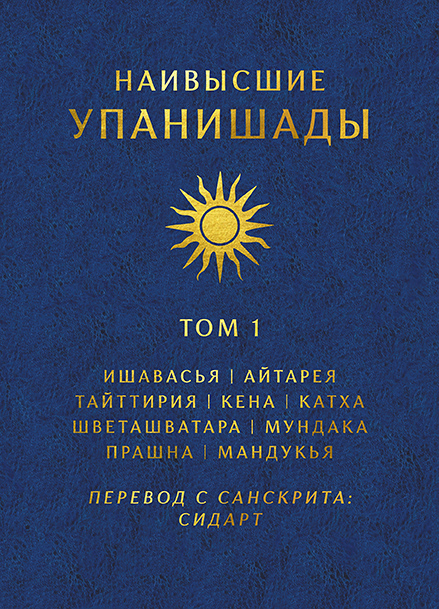
Упанишады — это Веданта, последние, вершинные тексты Вед (божественных откровений, полученных в глубокой медитации древними индийскими риши примерно за 12 столетий до нашей эры и затем устно передававшихся от одного мудреца к другому). В Упанишадах даются указатели для выхода из самсары — окончательного освобождения. Перевод Глеба Давыдова — это первый литературный (и ритмический) перевод этих текстов на русский язык. Этот перевод сохраняет не только точность наставлений, но и их поэзию. Упанишады вновь становятся живым Писанием, — это вовсе не сухое академическое изложение неких малопонятных абстрактных концепций, а точный перевод Живого Слова на русский язык. НА ПЕРЕМЕНАХ — ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ КНИГИ: Предисловие от переводчика, а также первые Упанишады, вошедшие в Первый Том трехтомного издания. Первый Том появится в книжных интернет-магазинах в октябре.
ПРЕДИСЛОВИЕ (от переводчика)
Введение
Литературный памятник? Нет, Упанишады не просто «литературный памятник». А точнее, совсем не «памятник». И даже не му́рти*. Они — живое Слово. В то же время Упанишады нельзя обозначить как сугубо религиозные или философские тексты. Даже слова «древнейшее поэтическое произведение» не могут в точности передать, что это такое, — в слове «произведение» уже затаилась неточность. Как, впрочем, и в слове «древнейшее». Скорее Упанишады можно назвать высокочастотными откровениями, которые хотя и были зафиксированы в поэтической форме великими провидцами (риши) древней Индии несколько тысяч лет назад, остаются и сейчас в полной мере актуальными для любого подлинно живого человека. Перед нами одновременно и поэзия, и духовное учение, и священное Писание, и преисполненные трансцендентного вдохновения мантры-заклинания, трансформирующие ум читателя и доставляющие его в наивысшие планы бытия.
В этой книге — первая попытка поэтического перевода Упанишад на русский язык. При этом термин «вольный перевод» (или «переложение») здесь не работает. Сохранены мельчайшие смысловые нюансы оригиналов. Послания и дух этих Писаний переданы настолько точно, насколько это возможно на русском языке, и при этом — перевод литературный, не академический.
Прежде чем продолжать это предисловие, переводчик должен сделать важное предупреждение: он всего лишь переводчик, а не учёный специалист. Но поскольку подобные издания нуждаются в предисловиях, чтобы дать читателю хотя бы общее представление о контексте, именно переводчику в данном случае приходится писать это предисловие. Ошибки и неточности в этих вступительных статьях вовсе не исключены (вплоть до случайных описок, подобных той, которая вкралась, например, в первое издание перевода «Рибху Гиты», когда в предисловии «Бхагавад Гита» была ошибочно названа «Рамаяной»), и автор заранее приносит читателю свои извинения за это. Сделав это предуведомление, поговорим — по возможности, кратко — о том, что такое Веды, какое место в них занимают Упанишады и о практике переводов этих Писаний. Также краткие индивидуальные введения будут даны к каждой из Упанишад.
Шрути
155 триллионов лет назад был явлен Брахма. Как откровение от Всевышнего Бра́хмана Брахма услышал инструкцию: «Делай Та́пас». Слово «та́пас» обычно переводят как «аскеза» или «подвиг», но оно означает буквально нечто вроде жара, который образуется под птицей, когда та высиживает яйца. То есть Брахме было сказано высиживать — высиживать нечто. Когда он приступил к выполнению этого указания, он услышал звук «ОМ». Это было началом мира. И началом Вед. Из «Ома» начал распаковываться космос, вселенная. И в то же время из «Ома» начали распаковываться Веды. Это было не столько творение, сколько раскрытие уже имевшегося в заархивированном виде Знания. Разархивация. Брахма был первым из Риши.
Кто такой «риши»? Буквальный перевод — «видящий». Риши — тот, кто видит то, что скрыто. Например, видит заложенную в явлении внутреннюю суть, скрытую от обыденного ума, и способен распаковать зашифрованное и помочь увидеть эту суть тем, кто готов к этому и кому это необходимо. Именно такими были те, кто получали в качестве откровения «Веды», которые сами по себе не были созданы, не имеют возраста, а считаются безначальными, существующими вне времени. То есть они были, есть и будут всегда. Риши (в силу особого склада ума, восприимчивости и богоизбранности) только увидели эти Веды, запомнили и передали людям. Первыми риши после Брахмы были божественные сущности Агни, Ваю, Адитья, затем Нарада, Маричи, Атри, Ангирас и другие, через которых постепенно распаковывались Веды.
Другое название Вед — «Шрути» (санскр. sruti), что означает «услышанное» и указывает на их природу как божественного откровения, воспринятого риши в состоянии глубокой медитации. В отличие от Шрути, более поздние тексты, такие как Итихасы (Рамаяна и Махабхарата) и Пураны, относятся к категории «Смрити» — «запомненное». (Хотя Смрити считаются паурушея — то есть имеющими человеческое происхождение, они опираются на Шрути, интерпретируют и развивают её идеи.)
По линии передачи, с особыми ритуальными посвящениями риши передавали гимны и мантры Шрути своим ученикам — из уст в уста. При этом абсолютное значение придавалось божественному происхождению этих текстов, и, соответственно, в святости держалась полная сохранность их смысла и точность передачи — вплоть до малейших оттенков звучания отдельных слогов.
Постепенно сформировалась следующая структура Шрути: четыре основные Веды:
Ригведа — древнейшая часть, содержащая гимны (рик) богам; в ней прославляются такие боги как Индра, Чандра, Варуна, Сурья и др. — вся иерархия богов, выполняющих те или иные функции в проявленной вселенной.
Самаведа — Веда песнопений, основанная на гимнах Ригведы, эта Веда содержит в себе ключи, позволяющие уравновешивать противоречия, неизменно возникающие в мире двойственности. «Сама» так и переводится «равновесие».
Яджурведа — Веда содержит в себе секретные мантры-заклинания, ритуальные формулы и инструкции для жертвоприношений, совершавшихся ради достижения тех или иных практических трансформаций и целей.
Атхарваведа — включает прочие заклинания, философские размышления и практические наставления.
Каждая Веда состоит из четырёх уровней:
Самхи́ты — дословно «полное благо, благополучие», базовые гимны и мантры.
Брахма́ны — комментарии, в которых описана суть разных ведических ритуалов.
Аранья́ки — тексты, передающие тонкие, менее материалистические аспекты ритуалов (служит плавным переходом к Упанишадам).
Упаниша́ды — тексты, которые также называются «Ведантой», то есть буквально «концом Вед», мы ещё поговорим подробнее об этом.
Также Веды (Шрути) подразделяются на три раздела:
Ка́рма-ка́нда — область ритуалов и действий. Она обычно связана с Самхитами и Брахманами, поскольку эти тексты содержат гимны богам и инструкции для проведения жертвоприношений. Здесь содержатся жертвенные ритуалы (яджни) и правила дхармы (праведного образа жизни);
Упа́сана-ка́нда — область поклонения и сосредоточенной практики. Включает мантры, медитацию и преданное служение. Ведические песнопения и ритуальные практики, связанные с концентрацией ума на божественном. Основная цель — углубление внутреннего сосредоточения и духовного подъёма;
Джня́на-ка́нда — область высшего Знания. Именно к этому разделу относятся Упанишады, которые иначе называются Ведантой, то есть «Концом Вед», или «Венцом Вед», точкой, в которой Веды приходят к своей кульминации, совершенству, высшей Цели, а именно: постижению Бра́хмана и освобождению.
Веды долгое время передавались только в устной форме. Однако с наступлением Кали-юги, когда у людей резко стали ухудшаться когнитивные способности, в том числе память, возникла крайняя необходимость зафиксировать их в форме письменной. Эта миссия около 5000 лет назад была возложена на великого риши Вьясу (поэтому также называют Веда Вьясой). Что и было им сделано. Он систематизировал и записал то, что дошло до нас как «Шрути» (а также зафиксировал такие Пураны и Итихасы, как «Шримад Бхагаватам» и «Махабхарата»).
Упанишады и канон «Мукхья»
Слово «упанишады» переводят обычно как «сидеть у Стоп Учителя». Слово это указывает на нечто очень-очень близкое, нечто хорошо знакомое, глубоко внутри понятное и узнаваемое всеми нами. Один современный свами иллюстрировал это следующим примером: это то самое чувство, что заставляет перелетных птиц лететь каждую зиму из одной части света в другую и прилетать именно на то дерево, куда когда-то прилетали её родители, а перед тем — родители её родителей. Нечто родное и знакомое почти на инстинктивном уровне.
Как уже было сказано, «Упанишадами» называется корпус текстов, который по-другому также называют словом «Веданта», то есть «конец Вед» или «вершина Вед». Речь идёт об освобождении и только об освобождении. О Джняне — Знании Естества, Знании Себя как Бра́хмана и Брахмана как Себя. Хотя в Упанишадах есть место и космогонии, и ритуалам, однако же и то, и другое в Упанишадах возникает не в качестве некоего самостоятельного аспекта (например, имеющего целью удовлетворение каких-то мирских желаний), а подчинено исключительно одной цели: указанию на выход за пределы, указанию на растворение индивидуального начала в Брахмане.
По сути, Упанишады — это и есть Знание Брахмана. Это синонимы. Они вовсе не очередной источник информационного знания, каких-то философских идей, концепций или сведений о мироздании (а именно так многие поверхностно на них смотрят). К Упанишадам следует относиться как к Гуру, одно прикосновение, один взгляд на которого (или один взгляд которого) способен даровать Спасение от самсары. Слова Упанишад — это не просто слова, а мгновенная свобода, лежащая за пределами слов, и если принимать их именно так, они дадут именно это. В противном случае они могут показаться запутанным мистическим бредом каких-то доисторических блаженных или же чем-то очень умным и философически сложным.
Во многом именно во избежание подобных казусов Упанишады в древности вообще запрещено было передавать неготовым ученикам (о чём прямо сказано во многих Упанишадах). Ученик сначала должен был пройти многолетнюю подготовку — провести в энергетическом поле Мастера долгие годы, наполненные обыкновенным бытовым служением без какого бы то ни было обучения. Кроме того, он должен был быть брамином, уже хорошо знакомым с ритуалами и мантрами других частей Вед и в известной степени утратившим интерес к их составляющей, направленной на мирские достижения. (Редко когда это Знание давалось представителю другой варны, ведь рождение в браминском роде гарантировало по умолчанию высокий уровень — генетически обусловленное благородство, благоприятную культурную обусловленность и соответствующий уровень интеллектуального развития.) В наше время фильтрация происходит иными, менее явными способами, но она есть. Например, даже если книга, которую вы сейчас читаете, и попадёт к человеку, совершенно к ней не готовому, он просто не сможет прочитать её. В лучшем случае — несколько предложений, которые тут же вызовут у него отторжение.
Есть точка зрения, что Упанишады — это знание, которое предназначается исключительно санньясинам (традиционно говоря — браминам, отрекшимся от мирской жизни и в том числе от ритуалов, предписанных Ведами для благой мирской жизни). Шри Раманачарана Тиртха сказал по этому поводу переводчику: «Когда человек хочет этого Знания, качества, которые от него ожидаются, это: абсолютно ничего не желать, отречься от чувства „делания“ и стремления к плодам действий, а также от пристрастий и антипатий. Если это всё присутствует, такой человек уже стал санньясином. Это и есть настоящая санньяса, а вовсе не обритая голова или оранжевая одежда. Всё это тоже имеет место быть, но это „а́шрама-саннья́са“. Если же ты оставляешь в стороне всё, что служит помехой твоей медитативности, и выбираешь только Бога, тогда это уже санньяса».
Шри Ади Шанкарачарья же говорил, что единственное условие для передачи и получения Знания Веданты — это вовсе не принадлежность к какой-либо варне или же социальному статусу (вроде ванапраста-а́шрамы или санньяса-а́шрамы), а качество внутренней зрелости ищущего, называемое «мумукшутвой». Мумукшутва — это жажда свободы, искренняя устремлённость к обнаружению Истины.
Традиция говорит о существовании в общей сложности 1180 Упанишад, однако из них человечеству известно лишь около 200, основные из которых образуют канон из 108 Упанишад «Муктика». Каждая Упанишада привязана к одной из четырёх Вед. Эти 108 Муктика-Упанишад делятся в зависимости от направления на «Шайва», «Вайшнава», «Шакти», «Йога», «Санньяса», а также — Упанишады канона «Му́кхья». Слово «мукхья» означает «главные», «основные», «первостепенные». Этот канон образован одиннадцатью (по некоторым данным — десятью) Упанишадами, отобранными в VIII веке Шри Ади Шанкарачарьей и прокомментированными им. Эти Упанишады принято считать самыми древними и важными. Их авторитет был широко признан уже задолго до Шанкарачарьи, и его комментарии этот авторитет закрепили. Упанишады канона «Мукхья» принимаются как Шрути всеми направлениями индуизма. Именно они стали предметом этого перевода:
Брихадараньяка Упанишада
(составит Третий том, идёт работа над переводом)
Чандогья Упанишада
(Второй том, готовится к изданию)
Ишавасья Упанишада
Айтарея Упанишада
Тайттирия Упанишада
Кена Упанишада
Катха Упанишада
Шветашватара Упанишада
Мундака Упанишада
Прашна Упанишада
Мандукья Упанишада
(составили этот том)
Слово «Мукхья» можно перевести также и как «Наивысшие». Как гласит «Шветашватара Упанишада»:
Всепронизывающее Естество —
словно жир в молоке — везде.
Оно корень Са́мо-Позна́ния
и Величие Упанишад,
Наивысших Упанишад.
О переводе
Почему существует так много разных, порой совершенно противоречащих один другому, переводов «Упанишад», да и других священных Писаний, написанных на санскрите? Например, в адвайтических интерпретациях они предстают как тексты, однозначно постулирующие недвойственность, а вайшнавы смотрят на них же совершенно по-иному, в духе двайты. Как такое может быть? Ответ прост: «Санскрит позволяет».
Этот язык называют языком богов не просто потому, что именно на нём записаны Веды и другие священные тексты. И не потому, что Веды считаются апаурушея (нечеловеческого происхождения), что подкрепляет представление о санскрите как языке, воспринятом риши в состоянии медитации. И даже не потому, что звуковая структура санскрита, согласно ведическим данным, отражает космические принципы. Всё это, несомненно, так, но главное проявление его божественности как раз в том, что он интерактивен — он говорит с человеком на том уровне, на котором человек готов — способен и хочет — услышать. Подобно самому Господу (который в Ведах неоднократно характеризуется как исполнитель желаний), сам санскрит — исполняет желания. Как говорит в «Бхагавад Гите» Кришна: «Видь во Мне всё, что видеть желаешь!»
Это многозначный, многослойный язык, порою вполне допускающий и пять, и семь, и десять интерпретаций одного и того же предложения (причём каждая такая интерпретация будет иметь право на существование как грамматически вполне корректная). Многие слова санскрита имеют десятки значений, почти каждая фраза Вед может иметь десятки смыслов и может быть истолкована множеством способов. Перевести эти тексты так, чтобы они оставались столь же многозначными и сохраняли бы в себе хотя бы десятую часть своих исходных значений — невозможно, даже если понимаешь эти значения. По той простой причине, что ни один другой язык не обладает ёмкостью, эргономичностью и интерактивностью, присущими санскриту. Поэтому-то в переводах и создаются многословные комментарии к этим текстам (в сущности, не слишком сложным, если читать их сердцем, а не умом). Поэтому-то и существует так много интерпретаций.
Знакомясь с корпусом переводов Упанишад на английский (и частично на русский), переводчик этого издания встречал иногда абсолютно дикие интерпретации, которые, казалось бы, противоречат даже здравому смыслу, и, однако, в комментариях иногда приводились вполне разумные обоснования этих интерпретаций.
Впрочем, разнообразные интерпретации существуют также и потому, что речь идёт о действительно очень тонких вещах. И всё же по сути своей Упанишады — это тексты достаточно ясные и простые, и лишь в частностях могут производить на современного читателя впечатление туманных и проникнутых неким многозначным мистицизмом.
Мистицизм этот, конечно, есть. Он связан как с отдалённостью от нас этих Писаний во времени (мистицизм, наложенный трансформациями восприятия и языка), так и с тем, что они адресованы в первую очередь браминам, уже хорошо знакомым с предваряющим Упанишады корпусом Вед, с символами и образами этого корпуса, и при этом внутренне готовым выйти за пределы этого корпуса (мистицизм культурных и религиозных символов). Но есть и несколько других причин, по которым в Упанишадах действительно присутствует мистицизм — совершенно особой природы. Это мистицизм таинства, связанный со сложностью оформления в слова настолько высоких и чистых Истин. Кроме того, эти Истины действительно сакральны и эзотеричны, что становится ещё одной причиной такого их оформления, чтобы понять реальное значение этих слов смог бы далеко не каждый, а только хорошо подготовленный (ясный) ум. Остальным же они вполне могут (и даже должны) казаться либо глубокомысленной философией, либо навороченной эзотерикой, либо полной или почти полной бессмыслицей. (Дело к тому же осложняется тем, что большинство переводчиков и смотрели на них как раз одним из указанных способов.) В то время как на самом деле в них выражены самые естественные вещи. Хотя и святые Таинства. (Ведь одно другому никак не мешает.) И в этом смысле Упанишады — это очень естественные и даже простые Послания.
После всего сказанного читатель всё же может задать вопрос: как, однако, определить, какая интерпретация верна, а какая нет? Какой перевод корректен, а какой нет? На этот вопрос можно ответить так: главный и решающий критерий только один, а именно чёткое понимание (или даже непосредственное видение) переводчиком того, о чём говорится в переводимом тексте. Интерпретация должна быть подтверждена садханой переводчика или комментатора, инсайтами, полученными во время этой садханы, инсайтами, согласующимися с утверждениями таких авторитетных Мастеров, как Шри Шанкарачарья и Шри Рамана Махарши. А подтверждён ли перевод истинными инсайтами, читателю становится ясно в процессе чтения — в том случае, если читатель сам пройдёт по представленным в этих текстах указателям и проверит, верны ли связанные с ними утверждения, убедившись на собственном опыте в их истинности или же опровергнув их собственным же опытом. Ведь именно так работает Живое Слово Писаний. Как говорит Муджи, Писание становится священным, будучи подтверждённым в сердце читающего, а до того — это ещё не Священное Писание, а всего лишь ещё один прочитанный или даже непрочитанный текст.
Впрочем, и собственный опыт переводчика тоже не гарантирует полной передачи всех уловленных переводчиком смыслов Писания, поскольку, как уже было сказано, не всё то, что способен вместить и передать санскрит, могут вместить и передать другие языки. Поэтому попытка переводить эти тексты ритмически — это, в числе прочего, жест отчаянья, вызванный осознанием этой невозможности в полной мере адекватно перевести эти Писания на русский язык обычными его средствами. При попытке переводить эти тексты ритмически появляется шанс передать гораздо больше слоёв и смыслов на глубинном энергетическом уровне — минуя фильтры обусловленного ума и избегая большого количества многоярусных ментальных толкований.
Для переводчика эта работа неизменно сопровождалась этим пониманием полной обречённости на провал — самого благотворного ощущения для любой подлинной садханы, ощущения, позволяющего распознать в себе ту силу, которая за пределами любых человеческих возможностей.
Термины и пояснения
В задачи настоящего издания не входит подробное комментирование и разъяснение всего, что может быть непонятным читателю в оригинальном тексте Писаний. Напротив, перевод сделан по возможности так, чтобы у читателя не возникло дополнительной необходимости в каких-либо разъяснениях — так чтобы текст говорил сам за себя и без интерпретаций (хотя всё же кое-где даны необходимые примечания и сноски). Именно с целью по возможности избежать комментирования переведены даже многие труднопереводимые санскритские термины (там, где переводчик нашёл это возможным). Например, для перевода термина «Атман» часто используются слова «Естество» и «Естьность». С другой стороны, некоторые слова оставлены без перевода, так как они вполне могут стать самостоятельными словами русского языка и стоящие за ними понятия в полной мере не передаются ни одним из существующих сейчас в русском языке слов. Например, это касается таких слов, как «тапас» и «джива», которые во многих, хотя не во всех случаях, оставлены в этих переводах в оригинале. Ведь хотя слово «тапас» действительно можно переводить как «аскеза», «подвиг», «труд», но далеко не всегда это в достаточной степени помогает действительно передать суть слова в том контексте, в котором оно звучит.
Однако некоторые комментарии к отдельным стихам всё же сделаны. Знак «+», проставленный рядом с номером или наименованием стиха, означает, что в конце соответствующей Упанишады к этому стиху дан развёрнутый комментарий, разъясняющий, уточняющий или раскрывающий содержание этого стиха, или какого-либо момента в этом стихе (в этом случае также над этим конкретным моментом поставлен знак «*»), или какого-либо нюанса относительно перевода этого стиха.
Упанишады рекомендуется читать вслух — так эти указатели становятся более эффективны даже для самого́ читающего, ведь они изначально оформились в традиции устной передачи Знания, и эта специфика сохранена в представленных здесь переводах. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ: «Ишавасья Упанишада»
* Му́рти (санскр. murti — «проявление») — сакральное изображение или статуя, представляющая определённую форму Бога или святого в индуизме. Это не просто художественный объект, а непосредственное воплощение божественного присутствия.
