Je suis йети
11 августа, 2017
АВТОР: Олег Демидов
Куницын И. Портсигар. – М.: Воймега, 2016.
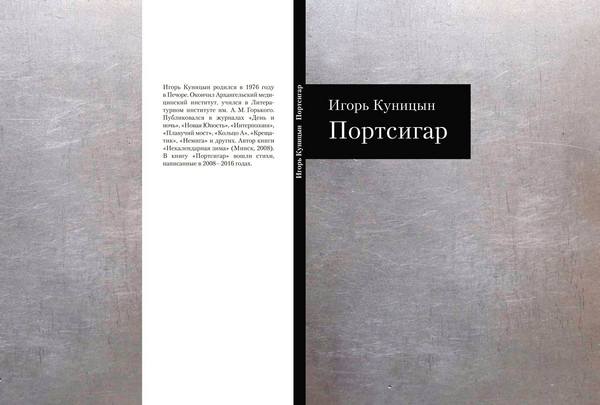
В издательстве «Воймега» вышла книга Игоря Куницына — «Портсигар». Появилась она в конце 2016 года — и до сих пор не было написано ни одной толковой рецензии. Этому, конечно, есть свои объяснения.
Во-первых, Куницын — по большому счёту новый автор. Его первая книга «Некалендарная зима» выходила в 2008 году в Минске и “массовому” читателю (насколько это определение применимо к современному литературному процессу) неизвестна.
Если полвека назад можно было напечатать подборку в толстом журнале, а на следующее утро проснуться знаменитым, то сегодня такого просто не может случиться. Куницын попадал на страницы «Интерпоэзии» и «Плавучего моста», «Новой юности» и «Крещатика» — кажется, много, но надо помнить, что даже профессионально подготовленных людей, которые бы читали все толстые журналы (хотя бы поэтические подборки), у нас очень и очень мало.
Во-вторых, мы подошли ко второй проблеме, о которой не устаёт говорить Андрей Василевский, — культурное перепроизводство. Пишущих людей — миллионы. Хорошо пишущих — чуть меньше. Юрий Орлицкий насчитывает сегодня около пятисот отличных поэтов. И это с учётом всех вкусовых погрешностей. Очень много людей и ещё больше текстов. В истории такого не было никогда.
Поэтому неудивительно, что только спустя полгода появляется первая рецензия на серьёзную книгу.
Герои и субъекты

Начнём с самого главного.
Лирический герой стал исключительно субъектом лирического высказывания. Есть всё-таки разница в этих понятиях. Поэт превратился в каталог таких субъектов. И хорошо, если у него есть этот каталог, иначе возникает беспредметность, “отдельность вещей и мыслей” (Кирилл Кобрин — о поэзии Анны Глазовой) и прочее пустое сотрясание воздуха. Прибавьте к этому бесконечные разговоры об интонации — и получите большой сегмент современной поэзии. Лирика подменяется принципиальной деструкцией формы. Чем оригинальней и масштабней, тем лучше.
Когда привычные “кубики” расшатывал Бродский (на его место можно подставить фамилию любого неподцензурного поэта советской эпохи), это выглядело достойно, ибо вся современная ему поэзия банализировалась день ото дня.
Сегодня — обратная ситуация. Есть движение к автору. Нам интересно, кто он и что он. Накопилась усталость от отсутствия иерархий — от мнимого отсутствия иерархий! Хочется человечности. Надо видеть, с кем ты имеешь дело.
Когда говорят, что человек стоит поодаль от своих трудов, — это всё поэтическая блажь. Нам интересны в первую очередь те, кто соразмерен сказанному и написанному. Поэт всегда отвечает за свои слова.
Когда мы говорим о любом большом поэте, мы представляем отдельно его и его лирического героя: Сергей Есенин и образ рязанского Леля, инока, а позже и хулигана; Владимир Маяковский и образ бунтаря; Николай Глазков и образ поэта-дурака; Борис Чичибабин и образы зека и рассерженного на весь мир человека.
Возьмите современных поэтов — никто не работает на образ, на лирического героя. Ни тебе жизнетворчества, ни сильной лирики. Каков Лев Оборин? Что такое Вася Бородин? Подмена понятий и институализация полученного. Одни субъекты лирического высказывания. И как итог — размытая картина литературного процесса.
Оттого столько мнений по поводу какого-нибудь конкретного текста: один литературный лагерь кричит, что мы имеем дело с поэзией, второй — с ерундой. И дело не в восприятии. Когда за текстом нет никого, это сиротливая серость.
Из прозы жизни
Недавно был фестиваль «Традиция», где состоялся большой разговор Михаила Елизарова и Алексея Колобродова — о центральных и периферийных явлениях в литературе и об их формировании. Из зала спросили о Светлане Алексиевич: почему для Запада она является существенным явлениям в русской литературе, а внутри страны — это откровенная периферия? И не хорошая литература, и не дельная журналистика — ни рыба ни мясо.
Колобродов, которому свойственна парадоксальность, легко ответил на этот вопрос: Алексиевич — родом из московского концептуализма. Рубинштейн играется с карточками, Пригов смеётся кикиморой, Алексиевич меняет, как перчатки, своих субъектов лирического высказывания.
От понимания всей этой ситуации и возникает куницынская грусть. Для него настоящая литература — это лёгкое опьянение и праздник. А всё сужающееся пространство качественной силлабо-тоники перерастает в предощущение физической смерти. Где есть место субъектам, нет места героям. Как следствие — нет и жизни.
Через парочку веков,
может, раньше на полвека,
станет мир вокруг таков,
что взгрустнётся человеку.
Он захочет закурить,
лишь подумает про это,
и в руке начнёт искрить
цифровая сигарета.
На скамеечку присядет
и тайком стакан нальёт.
На пустую руку глядя,
он подумает, что пьёт.
Скажет умная программа:
«Осторожно! Перепой!
Лишние четыре грамма.
Человек, пора домой!»
Вмиг исчезнет сигарета
и бутылка пропадёт.
За короткой вспышкой света
отрезвление придёт.
Неслучайно, наверное, возникает такое стихотворение.
Роботизация, над которой смеялись Игорь Холин (“Марсианки изумительны/ Обаятельны/ Предупредительны/ Тело/ Сделано из особого материала/ Гайки/ Болты/ Никелированы/ Ноги/ Необыкновенной красоты/ Груди/ Эмалированы/ Отклонений от нормы/ Два/ 1. Голова/ В форме бутылки/ 2. Половой орган/ Находится на затылке”) и куртуазные маньеристы (Вадим Степанцов писал: “Все больше киборгов на свете,/ все больше в мире киборгесс,/ творится на большой планете/ невероятнейший процесс.// Об этом киберманьеристы/ уже писали, и не раз,/ но ни Гринпис, ни коммунисты -/ никто не хочет слушать нас”.) и в которую как в чудо поверил Фёдор Сваровский, не прельщает Куницына. Всё это смерть. И с ней можно бороться либо смехом (как Холин и маньеристы), либо элегической грустью (как Куницын).
Куницынский герой
Лирические герои оттеснены на периферию и встречаются у полумаргинальных авторов — Всеволод Емелин, Евгений Лесин, Андрей Чемоданов, Андрей Добрынин. Поэтому всякий раз, когда появляется поэт, способный внятно мыслить и высказываться, случается праздник.
Игорь Куницын конструирует своего лирического героя как не-поэта. И это принципиально. И это, наверное, правильно. Когда кругом — одни «мастера культуры», как-то неловко становиться в строй и быть ещё одним.
Порой кажется, что Куницын развивает Бориса Рыжего. Та же лёгкая брутальность, то же пацанство, та же лирика городских окраин. Но это только видимость. Роднит их исключительно лирический герой, который принципиально не хочет быть поэтом.
Он может быть кем угодно. Чаще всего это касается не каких-то социальных амплуа, а простых жизненных ситуаций. Лирический герой Куницына — выпивоха, путешественник, четырнадцатилетний подросток, мужик, выгуливающий пса, и рыбак-любитель, надувающий дома лодку.
А уже потом — в играх с контекстом и аллюзиями проявляется образованный человек. То поэт, то врач. И тут уже можно рассмотреть не столько чеховскую или булгаковскую генеалогию, сколько аксёновскую. В самом облике Куницына (клетчатая рубашка, кепи) есть что-то вечно молодое и дерзкое и одновременно традиционное (помните у Есенина: “Я иду долиной. На затылке кепи,/ В лайковой перчатке смуглая рука”?).
На таком синтезе — и строится лирика Куницына: шестидесятнический драйв плюс рубцовские напевы или лианозовский концептуализм плюс кузнецовская сентиментальность.
Приведём небольшой отрывок:
Мне туда! Какая разница,
что на сердце у меня.
Если русский, значит пьяница.
Пьяный пьяному родня.
У прилавка эта троица,
пившая за гаражом.
Можно к троице пристроиться,
сделав рожу кирпичом.
Средь ромашек-одуванчиков,
с милой троицей вась-вась,
из пластмассовых стаканчиков
пить, куря и матерясь.
Куницын и Кропивницкий

Тексты Куницына, как хорошую детскую игрушку, можно крутить во все стороны, растягивать, нажимать на кнопочки, чтобы играла песенка, можно кидать на пол и быть уверенным — не разобьётся.
Так на последнем «Полёте разборов» слушали двух поэтов — Евгения Сливкина и героя этой статьи. Попался новый текст. Лирический герой сидит в сквере и усугубляет. Дома его ждёт жена. Но такое настроение, такая ночь — можно и выпить чуть-чуть. Герой и звонит домой, чтобы предупредить об этом. Появляются такие строчки:
Сижу на лавке, читаю книжку
(подарок Геры),
стихи что надо, АКАДО вышку
штурмуют ветры.
У стихотворений Куницына всегда есть двойное дно, поэтому появилось предположение, что Гера “двоится”: это может быть и приятель, с которым в сквере распивается коньяк, а, может быть, и древнегреческая богиня, которая как раз отвечает за семейный очаг. И как воспринимать Геру — это уже решает читатель. Какого же было удивление, когда поэт заявил, что “подарок Геры” — книжка Германа Власова. Казалось бы, нарочитая простота и прямолинейность, но нет: об этой ситуации и о её корнях — отдельный разговор.
Подобный казус произошёл с другим стихотворением, которое заканчивается следующим четверостишием:
Мы так и расстанемся, именно так,
вот так — по простому.
Он мне на прощанье опять про «Спартак»,
а я про Ерёму.
Вроде бы обычное обыгрывание устоявшегося выражения, но есть здесь кое-что ещё. В Ерёме можно распознать поэта Александра Ерёменко. Вновь возникает эта “двоякость”, разветвление смыслов. Но здесь уже идёт обыгрывание этой простоты, чего не было в первом примере.
Откуда же берётся всё это?
Поэтика Куницына строится на синтезе наработок Серебряного века (символизм и постсимволизм), лианозовской группы (самых человечных её представителей — Сапгир и Кропивницкий) и современной поэзии.
Нарочитая простота, предметность, уход от лирического героя к нарративности, нередко появляется ирония — вот связующие нити с лианозовской группой. Приведём небольшой отрывок:
Сегодня снегу навалило,
хватило бы на две зимы,
и на четыре бы хватило.
А это март! А это мы…
Отрывок — всё-таки отрывок. Он может быть случайным. Приведём уже целое стихотворение:
Пролетела машина «Мука»,
Хотя логичнее — «Мука»,
И я подумал, а пойду-ка
куплю пол-литра коньяка.
Переходя от слова к делу,
я выпил, глядючи в окно.
Опять машина пролетела,
то ли «Вина», то ли «Вино».
Поставьте рядом ранние тексты Евгений Кропивницкого — и увидите схожую интонацию и те же приёмы:
Приехал толстый гражданин,
Широкоплечий, бородатый
И с шевелюрою мохнатой,
Приехал толстый гражданин.
На небе был ультрамарин,
А тучки были, как из ваты.
Какой роскошный гражданин
Широкоплечий, бородатый!
Поэтика синтеза
Давайте попробуем разобраться, как устроен синтез Куницына.
Для этого возьмём стихотворение «Архангельск». Оно особенно показательно, когда заходит речь о смене интонаций и поиске собственного голоса. Всё тот же лирический герой, отмеченный нами, примеряет на себя поочерёдно лики Мандельштама, Бродского, Окуджавы и Рюрика Ивнева.
Я приеду в свой город на несколько дней,
Где по слухам давно отменили трамваи,
Где в морозную почву вбиваются сваи
И дома, как грибы, вырастают на ней.
Стихотворение начинается с парафраза Мандельштама: «Я вернулся в свой город, знакомый до слёз…»: та же ритмика, та же интонация. А продолжается сначала пешеходами, что «плывут средь сугробов, как боги» (сравните с песней «Мой город» Булата Окуджавы: «Но с каждым днём всё чище, всё злей его люблю/ и из своей любови богов своих леплю»), а затем и бесконечными перечислениями в стиле Бродского:
Я бреду в темноте мимо жёлтых витрин,
Ледяных городков и уснувших фонтанов,
Средь дешёвых кафе, дорогих ресторанов
С разноцветным играющим светом внутри.
Ностальгия как таковая и конкретная тоска по Архангельску помимо биографических обстоятельств пробуждает интимность лирики Рюрика Ивнева. Приведём отрывок из его «Архангельска»:
Все забыть и запомнить одно лишь,
Что Архангельск не так уж далек.
Если, жизнь, ты меня обезволишь
И сломаешь, как стебелек, —
Все забуду, запомнив одно лишь,
Что Архангельск не так уж далек.
Также эта тоска возникает сразу в нескольких стихотворениях: «Архангельск», «Ёрш» («Архангельск — слово длинное,/ холодное. С теплом/ я вспоминаю “Блинную”,/ напротив был мой дом…»), «На Двине сейчас привычный ледоход…».
Элегическая грусть
Помимо привязанности к Архангельску и тоски по нему возникает не раз многовекторная тоска. Мы уже говорили, что Куницын во многом элегический поэт. И помимо синтеза разных поэтик это, наверное, самое главное в нём. О чём бы он ни писал, всегда найдётся место “скупой мужской эмоциональности”.
Нельзя забыть, как запах клевера,
как фильм «Калигула», немногие
статьи в газете «Правда Севера»
профессора фармакологии,
как он в тайге встречался с йети,
как ночью с йети пил он чай,
как, расставаясь на рассвете,
кричал он йети: «Не скучай!»
Потом садился в поезд тихий,
потом писал, потом грустил,
а йети шёл домой к йетихе,
йетятам сушки приносил.
Йети — это поэт, забытый “массовым” читателем; если шире — творческий человек; если ещё шире — это поэзия, муза, вдохновение, гений творчества. После прочтения книги Куницына, так и хочется сказать: “Je suis йети!”
Элегичность проявляется в самых неожиданных местах. Даже когда поэт берётся описывать былички пьянствующих мужичков, выходит элегия.
Говорят, у нас над дачами
пролетали НЛО.
Говорят, по ним фигачили
из брандспойта Н?О.
Я спросил: «А много ль выпили,
перед тем, как их засечь?»
Я спросил: «Самих-то видели,
марсианинов, сиречь?»
Говорят: «Оставь сомненья,
как себе доверься нам.
Пей! И в ночь на воскресенье
повстречаешь марсиан!»
В воскресенье прилетели,
и расселись на крыльце,
и хорошую запели
песню, с грустью на лице.
Песню грустную, прощальную,
усиками шевеля,
про галактику спиральную,
про магнитные поля.
Так и получается, что «Портсигар» — это, если отступиться от более-менее серьёзной критики и на прощанье взять поэтическую нотку, — порт сигар, которые тянешь одну за одной, сидя на балконе, попивая хороший коньяк и слушая старые романсы то ли Александра Вертинского, то ли Клары Милич; а внизу, под окнами, — шумят дети и мужики скандируют: «Спартак — чемпион!»
