Начало — здесь. Предыдущее — здесь.
Читатель прекрасно понимает, что введение в реалистическое произведение чего-то такого, что противоречит нормам реальности, влечет за собой неизбежное разрушение реализма представленной картины — мир лопается, как мыльный пузырь, коснувшийся инородного тела. Поэтому-то всегда считались не слишком хорошими ставшие притчей во языцех развязки еврипидовских трагедий — явления бога из машины.
Богом из машины, объясняющим и разрешающим мое странное поведение, мои странные видения, непонятные совпадения в моей жизни — все то, о чем вы пока еще слишком мало знаете! — может показаться, и несомненно покажется многим, тарелочник, появившийся из неземного механизма, зависшего над подмосковным лесом.
Мне и самому показалось это недозволенным приемом, нарушающим законосообразные связи мира. Чем-то хотя и делающим более или менее понятной мою невозможность различать сон от бодрствования, но одновременно и чем-то лишающим меня последней возможности понимания этого мира и своего места в нем.
Действительно, появление неземного существа, способного влезть мне в душу, упраздняет, с одной стороны, законы природы, зная которые я как-то могу ориентироваться в мире (значит упраздняет и весь упорядоченный мир, который теперь превращается в пустой хаос впечатлений); — а с другой стороны, и меня самого упраздняет, — ибо в мне (мною) кто-то мыслит и чувствует — так что сам я уже чувствую себя совершенно не у дел: лишним; лишенным всех прав; лишенцем, не имеющим права ждать от мира ничего — ни горестей, ни радостей! — и не могущим никак воздействовать на мир. Вдумайтесь, читатель, — что значит оказаться лишенным веса, то есть начисто потерять почву под ногами, зависнуть между небом и землей, барахтаться в пустоте, не имея возможности ни на что опереться.
Вовсе не уверен, что буквально эти вот мысли пришли мне в голову, когда, уже затемно, добравшись до станции, я сел в электричку, идущую на Москву. Вовсе не уверен, но, по всей видимости, что-нибудь в этом роде я думал, — ибо, глядя в черное зеркало оконного стекла, в котором проносились перед моим взором задремавшие строения, леса, поля и речушки, — глядя в окно, я решил вдруг не разыскивать никакую Марину Стефанну, уклоняться от контактов с неземной цивилизацией, которой и вообще, быть может, не существует в природе и она мне только привиделась, оказалась игрой воображения, забавным поворотом ума, удивленного странными совпадениями тех дней и видениями, с ними связавшимися, общением со Смирновым, Ликой и прочими делами.
И этот Смирнов мне стал как-то неприятен — он и вчера, и сегодня весь день смотрел на меня так, будто я способен уврачевать его душевные раны. Эти глаза страдальца конечно трогали меня, но, читатель, подумай, что ж я могу? Я не целитель и единственно, может быть, смогу поставить диагноз. Весьма, впрочем, неутешительный диагноз. А может быть, и — не смогу. Все это пока не очень понятно, — но ведь читателю наверняка известно, что есть люди, которые, одурев от боли, бросаются к первому встречному в надежде ее унять, — таким мне показался Смирнов.
А я-то вдруг за обедом непонятно почему, на какую-то его нейтральную реплику, на ее подкладку (не берусь теперь сказать, в чем она состояла), — вдруг бухнул:
— «Отравлен хлеб, и воздух выпит»…
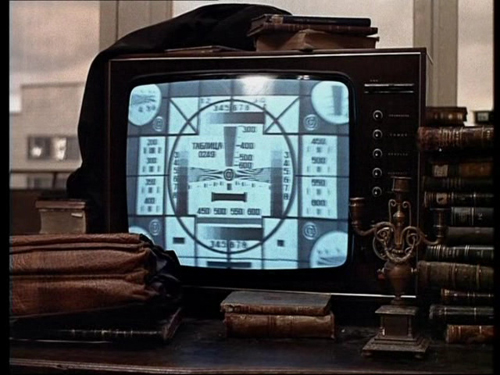
***
Если вам, когда у вас болит зуб и вы уже распялены в кресле, готовясь ко всему, лишь бы избавиться от этой муки, — если вам врач, покопавшись в зубе и разбередив боль до последней границы терпения, скажет теперь, что ничего не может для вас сделать: да, мол, зуб-то у вас, конечно, больной, но, предположим, нет сейчас времени лечить его, — если вам знакомо чувство, охватывающее страдальца после такого, вы легко поймете настроение Смирнова, когда мы прощались. Ведь он связывал со мной какие-то надежды (какие? — я не смогу объяснить, но что связывал — то очевидно), и вот я заявляю, что хлеб отравлен, а воздух выпит. Впрочем, меня несколько успокаивает, что после случая с Ликой уже это не так прозвучало, и, конечно же, не поверил он, что это ему приговор (почему он должен верить всякой темной лошадке!) — однако та неловкая фраза тяжело легла мне на сердце, и со временем ее тяжесть не уменьшалась, а только увеличивалась.
— Что? — спросил он сухо, когда я ее произнес.
— Ничего, — ответил я, поняв, что разговор об отравленном хлебе — вовсе не застольный разговор.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения

