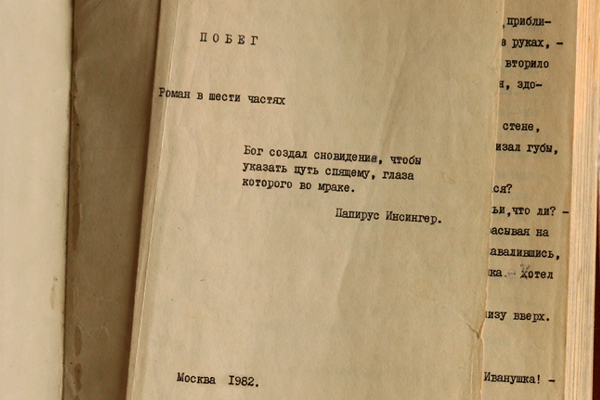***
Рубрики: Глава 1. Против астрологов, ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда: 19 апреля, 2009 Автор: Peremeny.ru
Начало книги — здесь. Предыдущее — здесь
Ведь, читатель, беременная женщина становится ужасно капризна — она ведь чувствует себя самой жизнью, то есть свободой, не считающейся ни с чем, кроме своих прихотей, — она как бы сама судьба. Модель судьбы своего ребенка (или того духа, который в ней поселился). Что бы там ни говорила наша наука, она не в состоянии объяснить того таинственного факта, что при полностью подготовленной к тому яйцеклетке, зачатие либо наступает, либо нет. От этого никуда не денешься, дорогой акушер-гинеколог, а случайностями объяснять такие вещи никак не годится, ибо — почему все-таки при случке животных зачатие наступает как правило, а у человека при всем желании — далеко нет? Или вот, скажем, наоборот: как не предохраняются, а все равно подзалетят.
***
Я не берусь придумывать никаких теорий для объяснения этого, ибо и так уже ясно, что всякая теория, объясняющая зарождение человека, в той или иной форме должна содержать старинное допущение жизненных духов или чего-то в этом роде. Да и как же иначе, читатель? — ведь должен родиться человек, существо духовное, и, если дух заранее не врожден в женщину, намеревающуюся родить, что, спрашивается, она станет рождать? И кто, собственно, станет рождаться?
Всякие сперматозоиды, овуляции, генотипы, гаметы, зиготы — это понятно. Как же иначе? — без тела людей не бывает — это ведь, как говорится, «не хлебом единым»… Но: «Тело без души — мертвец есть, душа же без духа — скот». Нет, не во всякое тело (яйцеклетку) может поместиться одухотворенная душа, ибо тонкая евгеника, проводимая жизнью на молекулярном уровне, не позволит духу вселиться в неподобающее тело…
И зрелая (спелая) женщина капризна не сама по себе, но потому, что ею овладевает этот вот дух. Она уже живет не сама по себе, а этим духом. Мотивы такой зрелой женщины — совсем не ее мотивы, но внушенные ей изнутри пожелания в ней живущего духа. Она принимает его желания за свои, а поскольку ей надо ведь как-то мотивировать эти желания, она говорит: «я хочу того-то и потому-то». Однако это не так — женщина вообще никогда не знает, чего она хочет и почему. Не она хочет — ей хочется! Совсем в чистом виде эти чуждые желания проявляются у беременных (обычные их капризы), и здесь то, что я говорю, можно видеть уже невооруженным глазом.
Я ведь был женщиной, читатель, — более того, я был акушеркой Томочкой Лядской — верьте мне: я опираюсь на опыт — на богатый ее и на свой небольшой…
Итак, Лика родилась не восьмимесячной, как она сама считает, и не девятимесячной, как предположил вначале я, но — семимесячной, как мы теперь вместе убедились, основываясь на уверенности в этом ее мнимого отца, который в мае, когда она была зачата, был в командировке. Это, впрочем, еще требует некоторых доказательств — фактических, но не эмоциональных! Доказательства, думается, мы еще раскопаем, так же как найдем исчезнувшего отца. Но для этого, — решил я, — лучше всего познакомиться и сойтись поближе с ее матерью.
Пока же я отмечу, что моя гипотеза (рабочая гипотеза, читатель) о рождении Лики оказалась весьма плодотворной, ибо объясняет некоторые противоречия между характером и гороскопом моей героини. Да и саму раздвоенность ее характера объясняет. Ведь собственно ради этого я предпринял свое исследование, а отнюдь не ради того, чтобы уличить ее мать. Совсем не ради этого, сударыня, хотя — женщина эта, не скрою, очень заинтересовала меня.
***
— А ведь его могли убить.
Так почему ж не убили? — спросил я, совершенно не думая — автоматически (я все еще держал в руке письмо, стараясь постичь смысл написанного). Опомнившись, переспросил:
— Кого?
— Да дядю Сашу же, господи, — сказала Лика.
— Могли убить?
— Ведь ты же сам предсказал это. Помнишь, сон толковал?..
— Помню, но почему «убить»?
— У меня всегда было такое чувство…
— Нет, ну а помимо чувства? Как он умер?
— Его нашли в мастерской мертвым: говорят, что инфаркт.
— Ну вот видишь — инфаркт, — сказал я. — Дело ясное: он был полный человек, сейчас жара… Ты что это, Лика? Милиция что-нибудь говорила, что ли?
— Нет.
— Может, у него были враги? или деньги? — ничего ведь не взяли? Ну хоть что-нибудь реальное…
— Да нет, просто мне показалось… я подумала, может быть, это вещий сон и ты что-нибудь мог бы сказать? — ведь там убивали…
— Ну и что — вещий? — конечно! — но это ничего не значит… что убивали, я имею ввиду. У тебя что же, и раньше было такое чувство?
— Да я не знаю.
— А когда ты его последний раз видела?
— Вот тогда на даче, вместе с тобой, — ответила Лика, и больше уже ничего я не мог от нее добиться.
Читатель, может, еще помнит, что на даче Смирнов показался мне странным — его взгляд, молящий о помощи, его бодрячество… Да и вообще — то, что он подсел к незнакомому человеку на бульваре, предложил выпить (ведь не забулдыга же он!), — все это говорит, конечно, о том, что его нечто угнетало, что он боялся чего-то, — боялся остаться один! — но Лика тогда сразу же определенно сказала мне, что от всегда такой, и я, поскольку почти совсем не знал его, не придал этим своим впечатлениям особого значения. Теперь же она утверждает, что у нее было какое-то «чувство», и, вспоминая свое краткое знакомство со Смирновым, я подумал, что близкая смерть уже тогда, при первой нашей встрече, наложила на него свою печать и что, выходит, мои смутные (вы их помните?) впечатления оказались верными. Ведь и сам человек всегда чувствует приближение смерти, и от других это чувство укрыться не может — сознает он (и они) это или нет. Но я совершенно не понимал, почему Лика решила, что Смирнова убили.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения