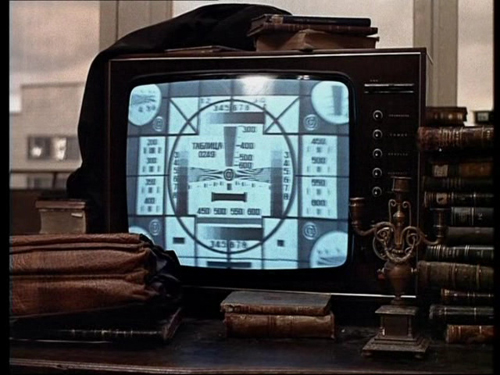***
Рубрики: Глава 5. Что я об этом думаю, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Когда: 20 июля, 2007 Автор: Peremeny.ru
Начало — здесь. Предыдущее — здесь.
Сыграли еще несколько раз, неизменно оставляя в дураках наших соперников, потом я вместе с рыжим усачом вышел покурить. И он рассказал мне что-то невразумительное о себе; о своих попутчиках; о том, откуда и куда они едут и зачем; и о какой-то корове, которую кто-то купил; и что вот эта женщина раньше была радисткой на метеостанции; и о ее муже; и даже о том, что бывает невроз любви (последнее я уже слышал от Сидорова).
Когда мы вернулись, я увидал, что женщина пересела поближе к окну и дремлет.
— Подъезжаем, — сказал рыжий и стал собираться. Действительно, мы были где-то около Кунцева. Я уселся рядом со своей бывшей партнершей. Не знаю, от нее ли или из открытого окна тянуло теплом и женственными ароматами майской ночи. Когда я оказался рядом, я почувствовал, как она вздрогнула всем телом — и мне передалось ее напряжение; вдруг вспомнились ее улыбки, движения, взгляды — мне стало тоскливо: вот сейчас она встанет, и мы разойдемся. И ничего нельзя сделать — вон как смотрит этот рыжий…
Впрочем, а почему же нельзя? — тут меня просто осенило: ведь она радистка! Я незаметно, чтоб только привлечь внимание, коснулся ногой ее ноги и, опустив руку на скамью поближе к этим ягодицам, стал выстукивать пальцами на языке Морзе: «Понедельник 19-00 Лермонтовская, понедельник 19-00 Лермонтовская, понедельник»… и т.д. Я не переоценил чувствительности ее попы — импровизированного приемного устройства. Когда поезд встал, она, пропуская своих мужчин вперед, вдруг повернулась ко мне:
— Лучше «Рижская».
Категорический императив, гласящий: «Поступай так, чтобы твой поступок мог стать основой всеобщего законодательства», — либо не состоятелен, либо ни одна женщина не против того, чтобы я принадлежал любой другой, — ибо максима, из которой все они исходят, звучит так: «Пусть он принадлежит мне во что бы то ни стало». Но ведь, если сделать это пожелание всеобщим законом, он, конечно же, противоречил бы желаниям всех других (женщин), — если только не предполагать, что я всех могу одинаково насытить. Как видно, ни одна из них не против того, чтобы я принадлежал любой другой (всем), — наверно потому, что все исходят из предположения, что меня хватит на всех, — что содержит в себе явное противоречие: я существо конечное, меня не хватит на всех, да я ведь всех и не хочу (добавляю, припоминая поучительную восточную сказку).
Да, противоречие, милые читательницы,—прямо парадокс какой-то: либо кантианская этика не учитывает женской нравственности, либо мое обаяние попросту сильнее ее… И я рад, что женщины, дай бог им здоровья и счастья, никогда не бывали на меня в обиде и привязывались ко мне всем своим существом или лучше (существенно лучше) сказать — естеством.
Но кто я такой после этого, читатель? — наверно, это тебя интересует. Не думай, пожалуйста, что я какой-нибудь бабник, ловелас, потаскун и т.д. — нет! Просто в эту весну я назарействовал. И пусть тебя не смутит такое странное употребление библейского слова. Назарей — не монах, как это принято думать, но, согласно истинному объяснению, нечто противоположное — это блудник во славу Господа Бога! — неутомимый искатель сладостных приключений и прекрасных истин, очарованный странник, поднявшийся на стременах и высматривающий из-под руки тайны изумительного мира, раскинувшегося перед ним, — то есть, Дон-Кихот и Дон-Жуан в одном лице. И еще, быть может, немного Данте, ведомый Вергилием по головокружительным орбитам чистилища любви, которая движет Солнце и другие светила.
И совершенно естественно то, что чистота, благородство, возвышенность чувств, куртуазность — не всегда мне доступны, и что совсем не всегда я дотягиваю до предвечных образчиков человеческого совершенства. В своем роде и я совершенен — ведь каждому времени свой фрукт.
Продолжение
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения