КПП на границе сна
22 октября, 2025
АВТОР: Александр Чанцев

Эти три небольшие новинки: китайца Си Чуаня, француза Луи Калаферта и румына Макса Блехера, — позволяют соприкоснуться с тем, что называют по-разному — от стихопрозы до фрагментарного письма, прозой афористической или нелинейной. В ускользании от определений, выпадании из канонов и заключены, возможно, загадка и очарование этих своенравных, но таких живых произведений.
Космические поэссе
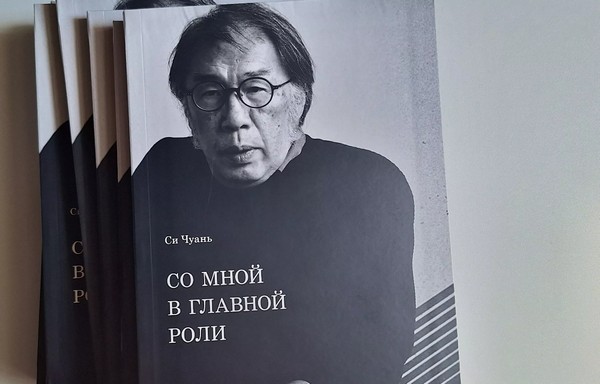
Си Чуань. Со мной в главной роли / Пер. с кит. И. Алексеева. М.: Prosodia, 2024. 140 с.
Про китайского поэта Си Чуаня (род. в 1963 г.) мне понятно мало. И нет, это отнюдь не вина переводчика, который сопроводил эту книгу избранного довольно развернутым предисловием. Из которого вполне можно узнать какие-то вехи жизни этого человека. Еще во время обучения на факультете английской филологии Пекинского университета образовал с двумя близкими друзьями поэтическую группировку, издавал, как тогда популярно было, сборники, распечатывая их на мимеографе. Трудился в международном отделе агентства Синьхуа и много очень поездил. Географическими перемещениями очевидным образом вдохновлялся и эмоционально подпитывался — и много произведений о поездках, и подписи под стихами с указаниями аж нескольких локаций, и видения иных земель и сфер. Те двое друзей умерли — впал в тяжелую депрессию, нескоро вернулся к литературе. Ушел с работы, сейчас преподает и ездит уже как приглашенный на всяческие фестивали и прочее литератор. Литератор, судя по всему, вполне успешный. Об этом переводе консультировал переводчика, подсказывал, они лично общались.
Вроде бы все есть, даже теоретически самого автора спросить можно, а — все равно ускользает он как-то. Закрыт. Проявляется в своей поэзии. Такими всполохами разных смыслов, необычных манифестаций, довольно меланхоличным, холодным, отстраненным настроем. Про герменевтическую поэзию, требующую непростого истолкования, писали многие поэты, но это именно тот случай. Да ведь и он сам говорит о своем «закрытом стиле».
есть тайна которой нельзя завладеть
лишь созерцать ее
внимать этой силе
послания издалека
попадают в тебя, пробивают насквозь
так — эта ночь над Харгаем
Да и поэзия ли это? У меня тоже сомнения. Точно очень необычная. Можно определить и как стихопрозу. Некоторое же строки — чистые афоризмы (даже о Трампе!). А вот идут части, которые скорее легче воспринять как фрагментарную прозу. Все это, если прокладывать очень примерный маршрут, где-то рядом с тем, как писал, например, Пессоа. У Си Чуаня и тут собственное определение — «поэссе».
тоска угнетает. Подвешенный гонг. Сонный барс в подвале. Винтовая лестница. Факел в ночи. Городские ворота. Холод, гладящий луг в свете ветхих созвездий. Герметичная плоть. Непригодная для питья вода. Айсберг на дрейфе сравнимый с огромным судном. Птицы-пассажиры. Перекрытое русло. Нерожденные дети. Неоформившиеся слезы. Неисполненное наказание. Хаос. Баланс. Восхождение. Пустота… как говорить о тоске и не впасть в заблуждение? Опадающий венчик цветка на развилке — прошу, задумайся о цене риска!
Почему, кстати, мы все о жанровом? Все потому же — эти тексты необычны, во время путешествия по их ландшафтам нужны какие-то разметки, работающий GPRS. Ведь вот Си Чуань (это, кстати, псевдоним) ведет за собой то в пустыню Гоби, где связь теряется, а то и вообще в те миры, что нарисовал какой-то уйгурский Босх или фантасту Лю Цысиню привиделись.
У Си Чуаня вообще часто встречаются этакие отбивки. Да, сразу скажем, оно и понятно, что на традиционную китайскую поэзию это никак не похоже. Да и была она очень разной в прошлом веке в Китае, вполне модернистской. Си Чуань совсем не гонится за формальными изысками, стилистически необычного у него только прозаический флер и очень длинные подчас строки. Нет, он ставит такие своеобразные отбойники. Делает, как и отмечает переводчик И. Алексеев, то, что снижением пафоса называется. Может показаться слишком торжественным, слишком горестным, этакие погребальные гимны древних?
воздух обнимает нас, но мы его не ощущаем; мертвые от нас далеко — в полях, в лунном свете — но мы очень точно чувствуем их присутствие — даже совсем уж увлекшись, они не убегут дальше, чем дети.
А он возьмет и опишет потом хлев и навоз где-то в провинции. Или то, что я, возможно, неуклюже, определил как видения. Раз и, после навоза, какое-то электрическое тело пою, что-то вижу, тени видений и явлений.
рассвет. человек не боящийся смерти как раз взбирается на вершину,
и как раз изымает фотоаппарат.
полнолуние НЛО как раз влетает ему в объектив,
у него за рулем как раз синелицый уродец.
для него забавляться прыжками между созвездий так же естественно,
как для тебя превозмогать усталость и ощущение смертности,
Опять же из другой совсем области — хотя почему, английскую литературу Си Чуань изучал, вот Элиота цитирует с указанием и без, — но я бы, возможно, сравнил бы его с Уитменом. Такая же плотская, эротическая, даже материальная конкретность, и тут же переходы в величественную космологию.
Хотя — как раз это очень напоминают некоторые гексаграммы в переводе Юлиана Шуцкого, — собственно, философское письмо даосизма изначально и было вполне светским. Там также имелась схожая структура текста, и темы неба были перемешаны с землей и соломой, котелками и тумаками, представляя — мир в его изменчивости и неизменности, ритм будущего, существующего в настоящем, где нет конфликта внутреннего и внешнего, внутреннее обусловлено внешним и созидает во внешнем, а — абстрактное и конкретное находятся в полной гармонии. Может это напомнить и Ли Бо — помянутого на этих страницах, как, кстати, и Ахматова с Мандельштамом, — но совершенно не как подражание, а господством простоты и ясности образов.
Стали ли понятнее особенности текстов Си Чуаня после всех моих слов и цитат из него? Возможно, нет. Возможно, эта та закрытость, работа с которой является составной частью удовольствия от письма Си Чуаня.
я захожу в лавку. ставлю новый настой.
каждый день что прожит — удачный. удачный и ранящий душу.
с каждым прожитым днем я все меньше могу понять жизнь.
Ляпайте что угодно

Луи Калаферт. Росчерк / Пер. с фр. В. Кислова. СПб.: Jaromir Hladik press, 2025. 120 с.
Говоря о русском следе, в следующей книге мы встретим цитаты-афоризмы из Есенина и Маяковского. И сама книга уже будет беспримесных афоризмов. То, что те не только полноправной частью большой прозы являются, но и в облака поэзии часто уходят, говорить даже как-то излишне.
Послесловие переводчика есть и тут, но более лапидарного характера, полторы странички. Оно подчеркивает буквально диккенсовские какие-то мотивы в жизни Калаферта. Родился в бедной семье, рано умер отец, и так же рано он пошел в люди, зарабатывать там и тут. Перебрался в Париж, чтобы стать актером (не стал), первый роман посвящен «суровой жизни подростка из лионского предместья: лачуги, пустыри, недоедание, пьянство, воровство, грязь, вши, насилие, секс, банды “волчат”, жаждущих жизни». Следующие книги были не менее жесткими, но в ином ключе — отчет о своей личной жизни и изучение женской сексуальности носило, по мнению тех времен, порнографический характер. Попробовать себя успел между тем во многих жанрах. «Автор различных по жанру, стилю и настроению произведений — реалистических пьес, натуралистических романов, тревожных, чуть ли не сновидческих новелл, ироничных, порой абсурдистских стихов в прозе, эссе, подернутых эдаким саркастическим анархизмом, а еще живописных и графических работ, — Калаферт на протяжении многих лет вел еще и дневники», которые регулярно издавал.
Следы всех этих жанров, их вкусы можно проследить и в этой небольшой книжке. Да, сборнике афоризмов или фрагментарной прозы. Не столь важны определения, ценнее и интереснее то, что бессвязные, разношерстные, очень короткие заметки образуют в итоге смысловое и даже сюжетное единство.
Во всяком случае, автора видишь. Самоуверенный, самовлюблённый даже, большой женолюбец и ипохондрик с суицидальным комплексом. Циник и ироник, конечно же. Он любит выпендриваться, шокировать, жалеть себя, напускать туману и говорить напрямик. Жалость, мизантропия и шок-контент («Нужна подстрекательная тематика»). Или видишь все же лирического двойника по имени Поль? Да там и автор вполне действует. Этакое запутывание, как те же отбивки у Си Чуаня.
То, что мы назвали отбивками, обязательно кажется в этом жанре. Слишком густое письмо — при всей своей визуальной воздушности, поэтической незагруженности страницы — требует эмоциональных и жанровых отбивок? Пестрое письмо как раз за счет своей дискретности будто полностью распадается, — чтобы затем вскинуться, возрасти и собраться в единство? Так, видимо, и есть. «Приблизительное. Вот оно-то и есть истинное».
И идут здесь просто бойкие афоризмы, абсурдистские иронические мазки чуть ли не в духе Владимира Казакова («У меня была намечена встреча со славой. Мы разминулись»), абстрактные видения, как и у Си Чуаня («С детской жадностью она впилась зубами в толстое солнце, которое мы купили у бродячего торговца на улице Карнучи»), и еще много чего-то личного («я прекрасно свыкся с собой») и слишком общего, что и раздражить может, и отвратить даже своей кажущейся банальностью («Женщины. Взгляды исподлобья, искоса, украдкой»).
Но — вот оно чудо литературы, казаковская «жизнь прозы» — все это как-то стыкуется и захватывает так, что пару часов ты живешь в мире Поля, то есть Луи Калаферта. Не очень уютно, едко, ернически, обреченно. Как в разговоре не плавно светском, а резком и о живой жизни. «Ляпайте, что угодно, так клеится разговор».
Грязными полями
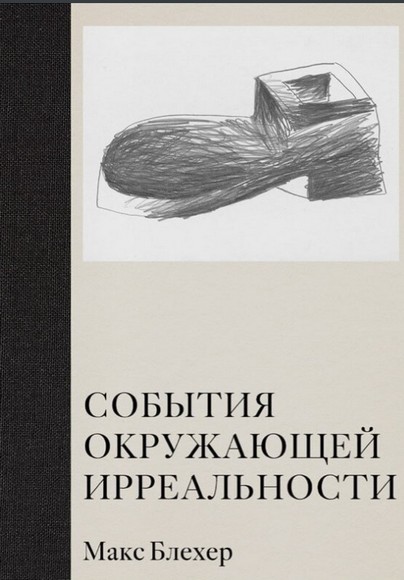
Макс Блехер. События окружающей ирреальности / Пер. с румынского Д. Конер. М.: SOYAPRESS, 2025. 100 с.
Письмо Блехера и в довольно свободное определение фрагментарной прозы не укладывается, но и линейным его никак не назовешь — его воспоминания-видения вспыхивают, как перегорающая лампочка.
Возможно, это как-то определено жизненными обстоятельствами, то есть невзгодами Блехера (1909—1938) — из-за туберкулеза позвоночника с 18 лет и до самой смерти он был прикован к кровати. И там вспоминал, фантазировал и лихорадочно грезил?
Текст идет такими главками-урывками, видениями — короткими и эмоционально сильно окрашенными, будто под температурой (39 один раз у героя будет), во время загадочных приступов или после. Приступы, как эпилепсия у Достоевского, накатывают, то подавляя тонус, то отпуская. Блехер, скорее всего, из такой же когорты проклятых подростков-творцов, что и Рембо, Радиге и Лотреамон. «Среди этой вездесущей тщетности, под этим вечно проклятым небом я хожу и по сей день».
Декадентских демиургов помянул я не зря. Макабр будет иногда смачно расплеснут по книгам. Душная, обсессивная даже сексуальность. И танец любви и смерти, где смерть ведет. Посему — и попытка самоубийства, и череда похорон с весьма натуралистично описанными обмыванием покойника и эксгумацией трупа. Или же герой отправляется по полю, куда сливают отходы золотари, опускает руки в нечистоты, понимает, что его руки этого и жаждали. «Я сам был творением грязи, ее миссионером, отправленным покорять мир. Мне было хорошо в те минуты, когда я вспоминал об этом и о моих ночах, полных темноты, жара и метаний. Это были ночи, когда моя грязная сущность рвалась на поверхность, но я закрывал глаза, и она продолжала глухо бурлить в темноте моего нутра. Вокруг меня простиралось грязное поле… Это была моя истинная плоть; одежда содрана, кожа содрана, мышцы содраны, подо всем этим — грязь. Ее упругая влага и сырой запах сердечно приветствовали меня, потому как мое сердце было слеплено из грязи».
Или это ходит не сам герой, а его возможный дневник, которого, как и у Калаферта, кличут Полем? Трудно различить в этом потоке «сбивающихся видений» — «бывает, когда я долго смотрю в одну точку на стене, я забываю, кто я и где я. Моя личность словно отдаляется от меня, и на мгновение я становлюсь самому себе совершенно чужим человеком». Но, вполне возможно, и «нет тебя и нет меня, есть только звёзды» (С. Калугин, «Звезды идут сквозь нас»). А «мы станем похожими на хрупкие и причудливые окаменелости, повторяющие очертания давно истлевшей раковины или стебля, от которых время не оставило ничего, кроме застывшего отпечатка. В таком мире люди перестанут быть разноцветными мясистыми наростами, набитыми замысловатыми и подверженными гниению органами; вместо этого они примут форму чистых пустот, плывущих, как пузырьки воздуха в воде, сквозь теплую и мягкую материю заполненной вселенной».
В любом случае, не будем вуалировать, гиньоль — это важный элемент книги. Как и вспышки абсурдных видений, будь то сны светлые или тяжкие, затяжные кошмары. И проходят по страницам железные подземные люди и летающие статуи, женщины без головы и герой, считающий себя деревом.
И вот тема просто напрочь удаленной границы — снята колючая проволока, снесен забор, убран КПП — между сном и явью в «Событиях окружающей ирреальности» определенно из генерализирующих. Книга и так местами сильно попахивает чем-то кафкианским, будто спин-офф «Голодаря» такой берешь: «На этих подмостках, чтобы заработать себе на хлеб, на глазах у публики нищие иссохшие старики глотали камни и мыло, молодые девушки выворачивали свои тела, а истощенные дети, бросая недоеденную кукурузу, выходили на сцену и танцевали, звеня привязанными к крестьянским штанам колокольчиками». А уж когда герой регулярно заходит в постоянно пустой театр, ходит там, видит молчащую женщину, что пьет воду из стены, потом она ведет его к другой женщине, больной, которая принимает его за другого, а он должен ее рисовать… Это уже «Америка», тот роман, где Кафка преуспел в более радикальном вызове — изобразить не кошмар, абсурд и трагику этого мира (Бог или черт с ними, кто об этом не писал), но передать законы и беззаконие сна.
Просыпается ли Блехер, этот румынский Кафка, как называл его Ионеско, от своего кошмара, и если да, то куда? Прямиком в смерть: Он, в частности, размышлял о том, что как при жизни люди одержимы видениями смерти, так и в ней должна бы сниться жизнь.

