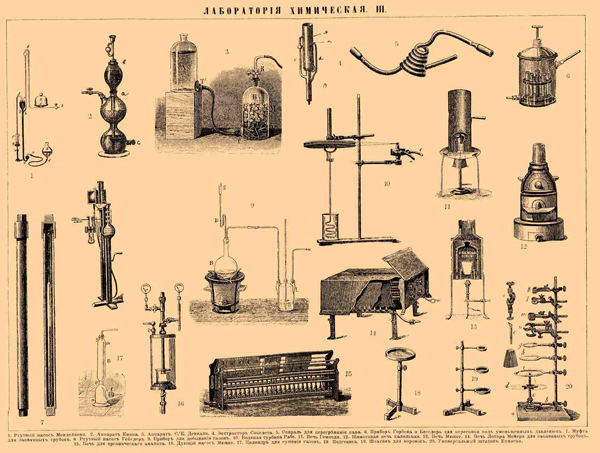***
Рубрики: Глава 7. О страсть вне всякой меры, ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда: 27 мая, 2009 Автор: Peremeny.ru
Начало книги — здесь. Предыдущее — здесь

Отчасти способ, которым мне удалось зафиксировать поэтический бред неземной цивилизации, напоминал «автоматическое письмо» Андре Бретона: я марал бумагу… «исполнившись похвального безразличия к литературной значимости результатов». Однако, разница все же была. Я знал, кто мне шлет эти образы, они были осмыслены (хоть и не мной). Тщательно перемешивая свои мысли с мыслями Теофиля, я видел, погруженный в самодовольство, и думал: Наша современная литература — такая ерунда, что говорить о ней просто не приходится. Как ведь вот пишет настоящий писатель!? — он пишет так, что одним концом своего пера касается бумаги, а другим — созвездий. Так что пишутся одновременно как бы две книги — земная и небесная, — и рука, сжимающая такое перо (перун), уже становится крылом, опираясь на которое человек парит во вселенной, связывая воедино — спаривая! — небо и землю. Он как бы впервые творит небо и землю так, что вязь его почерка на бумаге разрешается в связанный текст на небесах.
Но пожалуй здесь скажут: «Да ведь это же просто на небесах водят вашим пером, водят вас за нос, а сами вы так только — точка опоры, соринка между этим небом и этой землей». Вы так думаете, читатель? — ну так вот что я вам на это отвечу: я так не считаю (не оскорбляйте моих кумиров), а если вы так считаете, так вы и есть эта точка опоры моего пера — хотя бы уже потому, что опираясь именно на вас (вас, читатель), я отвергаю ваше доморощенное измышление и, в придачу, вас самих вывожу за кон.
***
Понятно, что первые тексты, написанные звездным странником, были весьма архаичны и, подчас, даже просто безграмотны. Он писал о вселенной, которая, как бомба, разорвалась на куски, от своего собственного жара, и теперь разлетается в разные стороны.
Когда я, написав, перечитывал эту историю с бомбой, меня попеременно посещали следующие чувства: насмешливо–удовлетворенное превосходство маститого критика перед детским лепетом новичка (знакомое и самое обычное для нашего читателя чувство — сознайтесь, я прав), затем авторская гордость (это от Теофиля) и еще страх (тоже от него), — страх и любопытство: а что же скажут?
И в первую очередь я указал начинающему автору на то, что, описав разлетающуюся вселенную, он не выдумал пороха, ибо всякий школьник у нас знает, что галактики разлетаются в результате какого–то взрыва — что видно по смещению линий в красную область спектра, согласно эффекту Доплер–Физо. Звездный странник обиженно ответил, что все это ему известно не хуже, чем мне (в этом я ни минуты не сомневался), но что у него это все проведено в поэтическом смысле.
Я со злорадством отметил, что авторская его гордость задета и подумал: Увы! — эта высокоразвитая цивилизация подвержена тем же самым предрассудкам, что и мы. Конечно, все эти наши «Доплер–Физо» — всего только пережиток первобытных представлений о разрывании сородичами родового тотема, который и представлял всю их вселенную. Конечно, принесенный самому себе «в жертву» тотем должен «воскреснуть», и Теофиль не преминул что–то еще добавить о «выворачивающейся вселенной» и тому подобном… Это тоже понятно: «жизнь — смерть — воскресение» — древнейшая, как известно, мифологема, и вселенная–тотем должна возродиться, как Дионис, разорванный титанами, или зерно, упавшее в землю.
Пожалуй, мой поклонник держал перед глазами как раз проросшее зерно, когда писал о взорвавшейся вселенной. И совсем не важно, будут ли эти зерна разлетаться вечно, или по линиям неэвклидовой геометрии когда–то вновь соединяться вместе — здесь важно то, что звездный скиталец — увы! — мыслит теми же штампами, что и мы с вами, любезный читатель.
Кажется Теофиль оскорбился моей критикой и прекратил свои опыты в области космогонии.
***
Но зато продиктовал физический трактат, из которого я понял, что одинокий звездный странник мыслит все–таки совсем иначе, чем мы. Здесь интересно то, как можно основать науку и добиться известных результатов, опираясь на иной опыт, чем наш, — я бы сказал не эмпирию, но эссей.
Ведь в основе нашей науки лежит то, что нас много, — отсюда абстракция «однородности опыта» (нужно, чтобы ты, читатель, мог повторить мой опыт). Небесный скиталец совсем одинок — подобные абстракции в его положении были бы просто абсурдны (если бы даже он мог их создать). У него нет даже представления о пространстве и времени, которые появляются у нас от того, что нас много и мы размножаемся. Наше пространство ведь — пространство взаимодействия, а время — есть порождение… Если же не с кем взаимодействовать, откуда возьмется такое представление?
Эссей Теофиля основывается на единственном представлении, которое ему доступно — ему доступна стихия. Или, лучше: стихия стихии. Его опыт — это мысленное движение в стихии стихии — стихии тела, стихии огня, стихии любви. Он не встречает тел, но знает их, отмысливая от (примысливая к) стихии стихии — стихию тела (так же — стихию огня, стихию любви). Он не знает огня, но знает огненность; не знает опыта, но знает эссей; не знает любви, но знает ее стихию. Отсюда и все его ошибки.
Но как он может отмысливать, откуда берется у него то, что примысливают, и то, чем отмысливают? А очень просто, читатель, — от нас, богов. Каковы мы, таким он и будет. И каковы наши представления о любви, такой стихия любви и представляется нашему беспомощному поклоннику. Есть здесь одно очевидное противоречие, но оно, видит бог, немного поздней разрешится как–то само собой.
Впрочем, трактат Теофиля преследовал единственную цель: объяснить, почему он может осуществлять прямое взаимодействие только со мной. Дело в том, что по его стихийным расчетам выходило: по отношению к любому телу во вселенной он движется со скоростью света и только по отношению ко мне — покоится. Это явление он называет принципом герменевтического дуализма.
Больше ничего не хочу знать о твоей метафизике, Теофиль.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения