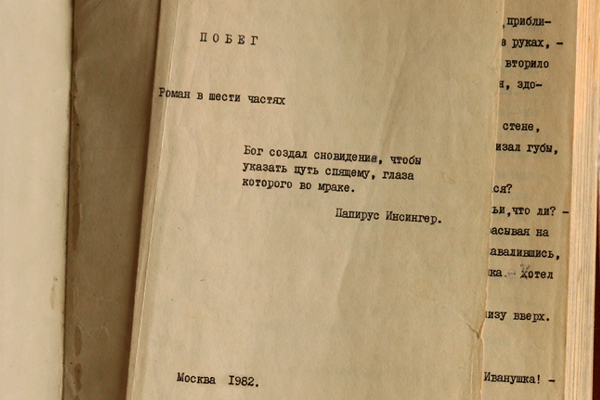***
Рубрики: Глава 3. Усмешка Гекаты, ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда: 30 апреля, 2009 Автор: Peremeny.ru
Начало книги — здесь. Предыдущее — здесь
Тут я проснулся — все еще держа в объятиях эту фигуру. Но проснулся я от раздражающе кислого запаха старой женщины. Она любострастно прижималась ко мне, что-то шептала мне в ухо, ритмично окатывала своим клокочущим смрадным дыханием. Я с отвращением оттолкнул ее, поскорей включил свет: на постели сидела ветхая денми старая старуха с растрепанными седыми волосами, с лицом морщинистым и темным, точно обмороженная мошонка. С бородавкой на лбу. Да еще с крючка носа свисала капля, которую она все смахивала стертым до основания большим пальцем правой руки. Я не мог вымолвить ни слова, а она гневно взглянула на меня сквозь пелену гноя своих тусклых и, возможно, совсем слепых глаз, — взглянула, тяжко вздохнула, потом, потянувшись, накинула грязный хитон на свою разлагающуюся наготу и стала пристегивать костяную ногу.
— Ты был любимец судьбы, — проскрипела она (и даже, выходит — любовник, читатель), — но теперь…
Ураганный вихрь принес с собой мглистый туман, и острые песчинки хлещут меня по лицу, подобно злобной стае жестоких насекомых. Я огляделся — моя комната превратилась в пустыню, тысячи ветров, завывая, сталкивались вокруг, свиваясь в упругие крутни, бросали меня из стороны в сторону. При каждом порыве я падал, пытался встать, но все падал и падал.
***
Я был наг, поскольку попал сюда прямо из постели… Я страшно мерз! Некуда было деться. Тогда я лег на лицо свое и стал ждать конца. Буря не утихала, и под ее яростные клики я уснул, лежа на голой бесплодной земле.
Я медленно проваливался в ее земные недра — это был как бы долгий полет. Вначале в том месте, где я лежал, почва немного расступилась, и я оказался в углублении небольшой ямки, но потом стал уходить все глубже и глубже, и земля сомкнула свои ложесна надо мной — ветер смолк, и в полной тишине я чувствовал, как проваливаюсь ниже и ниже к ее средоточию. Стало жарко. Все жарче, и я уходил все дальше вглубь, позабыв обо всем, — сущий младенец, укачиваемый матерью-землей, ибо я был прах. И наконец на этом медленном огне разогревающих меня недр я уже полностью растаял и, разливаясь текучей ртутью, оплавился с бурлящим ее естеством, разлился по ее жилам сладкой истомой, и поятая земля содрогнулась от своего земного сладострастия.
Толчок землетрясения разбудил меня, и теперь я вдруг почувствовал еще один… я лежал, как связанный, не в силах двинуться, и задыхался. Все-таки я сделал усилие, дернулся, и нога моя оказалась на поверхности. Слава богу! — ветер насыпал надо мной только небольшой барханчик — могильный холмик, — и через несколько минут мне удалось выбраться на поверхность. Буря утихла, но поднятая ею пыль висела над пустыней, окутывая открывшийся пейзаж мглой. Несколько смерчей еще стояли невдалеке, и непривычно огромный багрово-красный диск полуденного солнца придавал всей картине законченно зловещий колорит.
Никого не было вблизи — ни человека, ни зверя, — но вот в тишине я услышал ритмичный грохот: тара-тара, тар-тара, тара тара там… — звучали там-тамы. Откуда ни возьмись появились негры, затопали вокруг меня в танце. Шесть мужчин и шесть женщин, вращая задами, делая непристойные жесты, сходясь и расходясь, выплясывали передо мной и для меня — вились в струях резкого запаха, сочащегося из их тел. Вскоре к грому там-тамов добавились еще другие инструменты, и я сумел различить в этой какофонии тему Пятой симфонии Бетховена. Когда же там-тамы постепенно удалились, звучал уже только Бетховен в исполнении оркестра.
Из-за бархана вышла белая женщина с транзистором на плече. Она была одета в потертые джинсы, белую рубашку и спортивные туфли. Я был гол. Пусть мне это снится, но вопрос, снится ли это ей? Я хотел скрыться, да где там?
В живописи принято изображать мужчин одетыми, а женщин нагими — это естественно! — а наоборот… как-то не очень. Сейчас было наоборот, и я решил исправить ошибку.
Женщина подошла ближе и вдруг смутилась, разглядев мою неприкрытую наготу. Видимо, решила, что я эксгибиционист, но, попав в мои руки, поняла, до чего заблуждалась. Под громы последней части Пятой симфонии я раздел ее, и вот уже, оставшись только в беленьких трусиках и «адидасах», она разочарованно следит за тем, как я надеваю ее штаны (коротковаты и мешковаты) и рубашку (мужская, но уж очень тесна).
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения