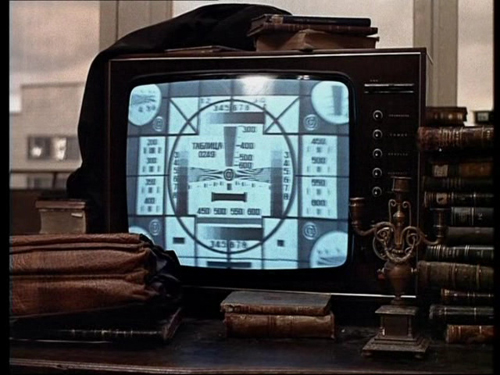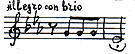Начало — здесь. Предыдущее — здесь.
Ах, читатель, прости мне эту темноту, мое неумение, неточность выражений — воспоминания нахлынут на меня, и я смущен. Я выглядываю в окно: сейчас глубокая осень, ночь; и ветер в остервенении кружит крупные хлопья первого снега. В свете одинокого фонаря мечущиеся снежинки кажутся звездами, сорвавшимися со своих мест и в обезумевшем небе — хаос пляшущих под ветреную гармонию звезд в ведьминских судорогах уносится влево, и кажется, что этому безумию не будет конца.
С тех пор я уже никогда не видел Смирнова, а ведь он оставил в моей жизни болезненный след.
Ведь вот нынче смешно звучит, а он хотел своим искусством исправить мир, смирить разбушевавшуюся стихию зла, сделать людей счастливыми. И он считал, что у него были для этого данные, — а у него был только талант, но не было сил. В его картинах было огромное напряжение, его краски взывали, его портреты проникали в самую глубину — однако что ж с того?
Но темой его жизни, его единственной картиной было, говорит Лика, «колоссальное полотно» — неведомый шедевр, большой холст, стоящий в дальнем углу мастерской. Я видел эскизы к нему: в зеленовато-фиолетовых трупных тонах к распростертым на земле детям подползали мерзкие тускло светящиеся чудовища. Ужас в беззащитно поднятых тонких ручонках, и слезы в глазах, обреченность и страх, и эти слабые руки, и сведенная смертной мукой плоть, и уверенно наползающая, накатывающая, торжествующая в своей безрассудной бесстрастности мощь отвратительных гадов, и сладострастно выгнутые спины их, и детский плач, и бесполезно поднятые руки, и адский хохот, и молчащие небеса.
Это были очень сильно выполненные эскизы — крупные фигуры во весь лист; экспрессивно-напряженные позы; густые, трагически звучащие краски; и ни одного просвета — ни одного проблеска надежды.
Видно было, что художник имеет, если можно так сказать, колоссальный опыт зла, что он сам весь истерзан и в полной мере выплескивает свою боль, свой ужасающий опыт, приобретенный всей жизнью, на полотно — что он прямо харкает на эти холсты кровью своего сердца и разводит краски горючим лаком своих безудержных слез.
Но кому в наше время нужна такая живопись, читатель? — мне? вам? самому Смирнову? — никому. Во-первых, если взять хотя бы его натюрморт (я уж не говорю об этих эскизах зла) — вы не решитесь повесить его на стенку в своей комнате, — он будет раздражать и бередить вашу совесть и старые раны, вы станете жить в атмосфере постоянной тревоги, неудовлетворенности, страха — то есть так, как жить нормальному человеку нельзя, да и не нужно вовсе. И постепенно без всяких видимых причин к вам придут болезни — болезни сердца, печени, желудка, головы — вот от этих великолепных овощей, и фруктов, и цветов, кричащих со стены, взывающих к чему-то сокровенному в вас; и как раз оно, это сокровенное, не позволит вам купить картину Смирнова, ибо хочет оно покоя и отдохновения от того, что и так уже переполняет вашу жизнь и прет ребром в ваш уютный мирок, выгороженный таким упорным трудом. Вот и выходит, что никому не нужен был Смирнов.
Но сам-то он не мог — не хотел! — понять, что никому не нужен, — и рвался к людям, и надеялся, что люди поймут его порыв, и натыкался на стены непонимания, и больно ушибался, и оставался один на один со своими картинами, которые, с точки зрения общения, были сплошной ошибкой, ибо никому не были нужны, — и он все больше замыкался в своем одиночестве и никак не мог понять, почему так получается.
И бодрячество его отсюда проистекало, и эта детскость, и пьяное шатание по бульварам, и заискивающее заглядывание в глаза, и шутоватое чтение газет, и шутливое пикирование с Ликой — все. Только, конечно, не стоит делать из людей бог знает что — не буду я ему позировать. Ведь это, пожалуй, он меня подтолкнул к Лике. Если б не этот портрет, не этот взгляд, — возможно, я бы и прошел мимо, не заметив его (этот взгляд), ибо Лика инстинктивно прячет свой взгляд, скрывает его от непосвященных. А Смирнов — профан! Какой же он профан, думал я, он разболтал всем тайну — и только потому, что ему захотелось эту тайну обрамить, — обрамить и подарить всем, — не выйдет, милейший! — первый встречный (не Толик — я) разгадает загадку вашего сфинкса — и все только потому, что вы не умеете хранить тайн.
 www.peremeny.ru-портал вечного возвращения
www.peremeny.ru-портал вечного возвращения