«Сад золотой» Виктора Перегудова
24 ноября, 2017
АВТОР: Роман Борисов
В. Перегудов, «Сад золотой». М.: «Художественная литература», 2009 г.—408 с.
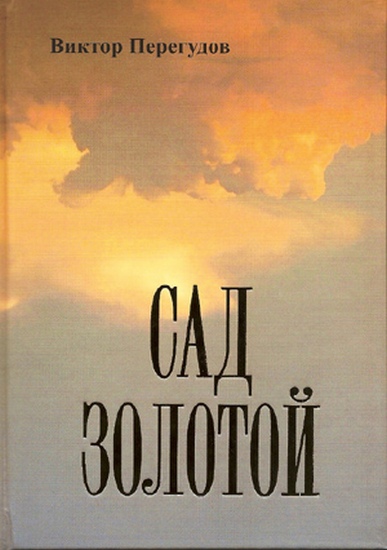
Зачастую ощущение слитности автора с его произведением маячит в восприятии читателя где-то совсем на заднем плане или отсутствует вообще. Здесь же сразу и ясно чувствуешь: написан этот сборник рассказов, миниатюр и афоризмов человеком пассионарным, очень любящим жизнь и вместе с тем глубоко совестливым, имеющим в жизни этой очень свой, притом цельный и довольно жёсткий свод правил — нравственных и художественных… написан языком вкусным и сочным, чуть сказовым, а важные текстообразующие фразы, строящиеся на первозданной, какой-то непосредственной и оттого непривычной сочетаемости, большей частью чётки и коротки — по-перегудовски ёмки и образны.
О, это сильная упругая проза!
Как точно:
«Сигаретка все слова делает обыденными, ласку невозможной, а настоящую откровенность исключает».
«В человеческой душе… живёт целый зверинец. И жрать просит! Заяц трусости, лиса хитрости, медведь глупости, шакал подлости, змея предательства, лемур лени, таракан зависти — никакой твёрдой зарплаты, даже и превышающей минимальную, не хватит, чтобы насытить мелких обжор».
Как здорово сказано…
«И если бы перед этим внутренним зоопарком затанцевала вдруг бабочка, то населяющие его «кошмарные звери» завороженно смотрели бы на её танец и затихали… и потому каждому, словно некая охранная грамота, необходима зимой и летом живая бабочка, оберегающая в чистоте его дух», — пишет об одном из лучших рассказов цикла «На белом фоне» .

На этом-то вот «белом фоне» — кошмарный замес всего под названием «жизнь»: и любовь, и семейные драмы, и танцы с зимними бабочками, и история страны…
Сюжет? — да разве уместишь его в два слова: человек (якобы) сходит с ума после изнасилования и убийства дочери, от невозможности покарать ненавистника своего должным образом по закону. Но всё равно видит эту — свою — бабочку (см. выше), а жизнь — мыслит «на белом фоне».
Да, сюжеты у рассказов Перегудова, как правило, непростые, «нелинейные»: нечто важное, основное, представленное «до», может обернуться некой противоположностью своею «после» — предстать уже совсем в другом своём ракурсе, с иным, более общим, философским смыслом, разрешающим всё или, наоборот, оставляющим знак вопроса, огромный и печальный. Порою действие предстаёт в некоторой «оболочке»: так, герой пишет одноимённый, но менее глубокий по замыслу, рассказ «В храме» как бы на фоне старой своей любви, на фоне встречи с теми же местами и воспоминаниями о тех же событиях.
Рассказ «Караоке по телефону» задаётся смысловыми гиперболами, особой гипертрофированностью, непривычной фокусировкой происходящего и придачей соответствующей энергии тексту. И конечно, необычной вывернутостью сюжета, описания которого тут же меркнут – это просто надо читать… Она произносит за Него то, что он, с полувзгляда влюбившийся и ошарашенный её красотой, не может и вымолвить, при этом она этак гротескно «излучает нелюбовь» — потому никто с ней и «не может», и она ни с кем.
Но сила женского призвания к чадородию воздействует и на её подсознание — Её, не любящую никого, — и эта высшая сила всё растапливает, и вдруг рождается ребёнок. Вдруг — не от Него, рассказчика, а от вроде бы никак не равного ей ни в каком смысле инвалида, за которым она оказывается замужем… (А караоке там ни при чём, как и, в общем, телефон.)
В рассказе «Слепая любовь» юноша с нарушенной психикой и зрением, зато одарённый неким ясновидением, насилует несколько девушек — сразу это непонятно читателю, а сказано в конце, завуалированно, мастерски: они его, слабовидящего, «бьют по глазам»! И вот, осознав это, просит он Господа ослепить себя совсем…
Вообще большей частью это проза 90-х или о 90-х — реалистичная, выпуклая и жёсткая. Не щадящая ни героев, ни повествователя. Возвраты (флэш-бэки), сбои ритма, порой намеренно рубленые, короткие предложения — всё это динамизирует, играет на замысел.
Повествование рваное, изобилующее смысловыми опущениями и перескоками от затаившегося авторского «я» к действию, неожиданно сменяется настроенческим, тревожно-грустным, и что-то лаконичное, будто довлатовское рассыпано повсюду, часто иносказательное: в рассказе «Трава-мурава» трава — та матрица, в которую загнан и в которой увяз герой, не находя сил вырваться из жуткой действительности.
Эх, насколько же всё поломалось в отечестве и в нас! «Синие московские мертвецы, поедающие детей» — хоронят живую Россию!..
Постоянным размышлением о порочных, но мощнейших поведенческих движителях на сломе эпох — желании денег, баб, власти над людьми, о цене жизни и мере нравственности человека — пронизан рассказ «Исполнение зарока». Построен он на ярком и необычном противостоянии, столкновении, состязании и сродстве двух мужчин, характеров, умов, поколений, воль, на постоянном контрапункте Я — ОН, и даже сам рассказ ведётся от 1-го лица… да только лица вот всё время чередуются!
Один, старший, одержим комплексом «своих» правил в бизнесе, да и в жизни: навязать, перекупить, обескровить, опустошить, по-любому поставить себя — над. Другой, молодой, солдат-срочник, дезертир из Чечни, расчётливый и сметливый провинциал, имеет целью втереться к нему в доверие и попросить «много денег» на осуществление своего «зарока» – отомстить чеченцам за казнённого друга.
Идёт к цели своей он своеобразно — для того, чтобы «загнать в интерес» бизнесмена, якобы нарочно подставлялся он в поле его зрения… Однако задним числом оказывается, что герои выслеживали друг друга оба — один через оптический прицел с чердака, другой в снайперский бинокль — с дерева… Только вот зарок так и остаётся неисполнен — вроде и деньги получил от своего нового друга, и знал, что делать на них будет, не окажись на пути у героя случайной тачки с бандитами… Крутой нежданный разворот, идиотская случайность, столь характерная для недавней совсем России, сводит на нет результат этого странного сближения…
Только вот родственность душевная остаётся.
Рассказы «На чёрный день» и «Дольче вита» оставляют впечатление тем более сильное, что ведутся они от имени Женщины. На нескольких страницах встаёт целый роман — о муже/ любовнике, о непростых, узнаваемых и как всегда неповторимых отношениях мужчина-женщина, представляющий в новом свете довольно тривиальные сюжеты — омерзительные и прекрасные, страшные и ностальгические моменты из тех же 90-х.
Интересно построен рассказ «На чёрный день» — «сверху вниз», т. е. происходит как бы постепенное «убывание» повествовательных уровней. В конце: «Остались без машин, квартиру продали, живём беззвучно(!), хотя он (муж) и болтает что бог на душу положит… Подвели своих врачей, те подтвердили: афазия полная. Афазия — дочь Дефолта(!).»
Женские образы у Перегудова особенно убедительны, хороши и жизненны диалоги. А чего стоят описания девушек:
«…Есть такие, похожие на стремительных, молодых ангелов, у которых много радостных дел в жизни. Чистые, сильные…, летящие над тротуарами. Присмотреться — увидишь два тугих лебединых прозрачных крыла и конопушки на носу». «Дальние поездки»
На перекрёстках судеб и самых неожиданных дорог встречаются герою замечательные и такие разные, но в чём-то и похожие женские характеры (Веры, Светы…). А из командировочных воспоминаний, из каких-то нескладных отношений, где от «люблю» до «ненавижу» — кратчайший шаг, выплывает главное — мысли о смысле, о соотношении (и соотнесении) денег и любви, души и тела… («Провинциальная ночь», «В густых садах любви».) Да, всё как в жизни, в которой настоящее и хрупкое, как нарочно, рушится во имя осмысления чего-то главного.
Узнаваемая житейская, «послеармейская» ситуация описана в рассказе «Другие женщины». В деталях, тонких психологических нюансах, опущениях — совершенная точность психологизма, когда всё понятно без слов: это самому знакомое, щемящее, психологически очень верно переданное состояние дембеля, возвращения домой из армии, когда девушка «не дождалась».
Ностальгичен короткий рассказик про «Девушку с веслом»… Пылкая и «настоящая» юношеская любовь, способная оживить статую, разбивается о соперничество со строгим бюстом Дзержинского:
«У кого-то Дзержинский отобьёт девушку, а многие до срока превращаются в скульптуры на кладбище».
Порой в рассказах, в общем ярких и запоминающихся, тем не менее, проскальзывают некоторые штампы, буквализмы, где-то и газетность, без которой, видимо, не обойтись, повествуя о связанных с сюжетом исторических событиях, ненужные закавыченности, отдаляющие предмет от читателя, а иногда и сам замысел преподносится как бы на блюдечке — зачем-то вдруг чуть не открытым текстом. Совсем реалистичные и эдак «бытово» написанные «жизненные» рассказы, на мой взгляд, менее удачны («Август», «Голубой Дунай», «Мальчик», «Дурачок»).
Как бы там ни было, а безусловный флагман сборника — так и идущий первым рассказ «Сапсан», который мы, однако, посмакуем на десерт этого небольшого разбора. Удивительным образом здесь сплетаются несколько линий и подтекстов: это и личная история разлада с любимой и обретения её вновь; это и взгляд Сокола прямо с одной из урбанистических метастаз — «такого отвесного, уступчивого башенного утеса, как имени Михаила Ломоносова главный университет» — на ущербную цивилизацию; это и намечающиеся отношения Человека с Соколом, и зависть ему, и сравнение себя с ним, и близость ему, и бесконечная далёкость…

«Сапсан ищет себе крови в небе. Я свою женщину ищу на земле».
У обоих — одиночество и родство каким-то отречённым душевным неистовством: «Мне, выходит, крупно повезло: я видел сапсана! Но и он видел меня — в ту минуту, когда я в смертном ужасе отшатнулся от распахнутого окна». — Здесь таки признание невозможности полной тождественности, а то от такого обезличенного, осапсаненного описания Читатель сам уже начинает одиноко парить там, под университетскими крышами.
Всё держится на ключевых сопоставлениях понятий/ действий: сапсан — человек — жертва — женщина — охотиться — выслеживать… Но сапсан падая кроет жертву, а человек разобьётся. Сам притчевый стиль способствует рождению новых необычных сочетаемостей (как видит условный сапсан условного человека и человек — Сапсана):
«Нет таких краев, где сапсан во множестве. В Москве сейчас, вроде бы, есть сапсан. Точно это никому неизвестно».
От сапсана автор переходит на печали, глубинным лейтмотивом владеющие героем:
«Сапсан смотрел на меня сверху, и думал горько: вот человек. Этот человек, думал сапсан, стоял у окна, не исключено, что собирался полетать. Жуткое зрелище, когда человек летит. Разбивается всмятку».
Лейтмотивом проходит одинокий и гордый вызов миру, общественным условностям: оба неистовы в своей одинокой и разной, но такой похожей борьбе.
«Может быть, и есть тут сапсан, мне-то что за дело? Дело в том, что я женщину разлюбил».
Человек любит смертно, это чуешь кожей. Серьёзно, бескомпромиссно, только её до дурдома. В чём сила автора (Человека) и Сапсана? — в суровой отречённости.
Любовь в своём неистовом непреклонстве уважаема.
Для Человека это попытка найти один-единственный для себя объект в мельтешащем мире, проверка, что ли, себя от обратного — в такие моменты вернуться к истокам, к рефлексам, к памяти генной, поучиться чему-то у животных…
Играют и полуфантастические допущения — он наблюдает за своей гуляющей где-то в Москве «сукой» из окна Университета, и неожиданные ракурсы наблюдения… Бинокль — это метафора одиночества и жажды володения.
«Устали мои глаза, и сколько же женщин ходит по набережным, и сколько их бродит вокруг университета. И скольких берут по кустам! И неужели по любви? Но неужели без любви».
Появляются и мысли, которые могли бы быть свойственны в данном контексте скорее инстинктивному пониманию пернатого:
«Пробрался к окну, смотрю. Наверное, стёкла бинокля блестят, так что, если она случайно бросит свой взор на здание университета откуда-нибудь снизу, из Москвы, то, не исключаю, заметит острый блеск оптики. Полагаю, я рассмотрю, и с кем она мотается, моя сука».
В этом и некий примитивизм и необременённость привычными артефактами цивилизации, пренебрежение ими, дающие взгляд просветлённый, чистый, сырой, меткий, и идея закрытости от мира, кастовой, что ли, исключительности… Такая закрытая страсть редка и доступна немногим.
Авторский почерк завораживает. Да так, что перечитывать заставляет, к самому началу возвращаться.
И вот в чём, думаешь, такая магия/ магнетизм?.. А вот в чём.
1. Сумасшедшие повторы («но не зверю, нет, но не птице, нет, не птице», «но хотя бы голубя, хотя бы голубя», «вот слушайте, слушайте Брема», «А я в очках. Я в очках».) задают рассказу несколько надрывный ритм, вводящий читателя в особый напряжённый тонус, в котором он до самого конца и содержится. Так нагнетаются энергии — вспоминаешь сразу и почти исступлённую прозу Т. Зульфикарова (ср. «Коралловая Эфа»), и даже энергетику горьковского «Буревестника».
2. Чудная, совершенная серьёзность изложения соответствует почти патологически самоуглублённой строгости замысла героя. Ни тени обычного авторского сарказма, житейской насмешливости или самоиронии — что поначалу как-то настораживает, а затем пленяет. Мы видим Человека Необременённого, не отягощённого ничем, кроме своего замысла, что делает его уже не совсем человеком — и уже в этой своей новой сущности он наблюдает за мелким, неинтересным, а местами уже как бы и непонятным человечьим миром…
3. Общая отстранённость, подчас некоторая холодность изложения намеренно не соответствуют пассионарности бурлящих в нём смыслов: «Я ничего не ем двое суток, как её разлюбил, и не пью. И не хочу. Мне бы сожрать голубя! Его кровь ведь красная, яростная, и солёная!»
4. Необычная сочетаемость подчёркивает некоторую невнятность авторского лица, порой вольно или невольно ассоциирующего себя с соколом: «Излишне высоко летают самолёты». А чего стоит фраза: «Яростно, чисто охотился, но жил тишайше».
5. Глыбисто коверканным, причудливо грубоватым, местами нарочито примитивным, будто неотёсанным стилем рассказчик/ герой словно избавиться стремится от шелухи правильности, побыть к истокам ближе: «А днем я видел тоже любовь, там много вокруг университета мест, где наскоро кое-что, и сверху видно, но не интересно»… «Есть и Брем, но мне зачем покупать — я открыл том на развале, прочитал, запомнил, всё понимаю про сапсана».
Дикое, «экологическое», условно первобытное видение окружающего — то со стороны Человека, решившегося отрешиться от цивилизации и как бы намеренно стряхнувшего с себя значительный культурный суперстрат, то глазами самого Сокола — вот этот-то новый взгляд и порождает соответственно нестандартный, «странный», но предельно ясный, чистый, как бы «развёрнутый к истокам» язык, интуитивно верно отвечающий творческой задаче.
Неясно, что именно там случилось, но эта неясность хранит в себе мощную статическую энергию, и эта энергия ищет свой выход. И он опять же — в любви, в сексе.
Пассионарность сапсанова образа, его причастность к авторской драме бессознательно, зверино передаётся и Ей. Это концентрированная энергия основного инстинкта, сжатая до неизречимой сути.
«…я (ей) всё рассказал. Кроме того, что видел, что делается в кустах вокруг университета. Она быстро потемнела лицом. — Пойдем в кусты! — сказала она вдруг. Хрипло».
Вот итог! Недаром сообщения о кустарных совокуплениях повторяются автором в рассказе несколько раз — упоминательно, вроде как механически…
«Сапсан» — блестящая метафора переосмысления человеком своей сущности через глубинно сокрытые в нём инстинкты.
«Семь тетрадей», свод записок и жизненных мудростей, чем-то напоминает «Ни дня без строчки» Ю. Олеши, «Алмазный мой венец» В. Катаева… То стоят за ними записные книжки, то сентенции с максимами, то просто вспышки ощущений из прошлой жизни. Это нельзя читать сразу, помногу: мудрым человеком писалось. От коротких каламбуров до почти рассказиков — парадоксальных или настроенческих правдивых зарисовок, от которых порою тошно. И за полстраницы вроде бы обыденного текста цепью нарождающихся ассоциаций может пронестись вся жизнь человека.
Афоризмы редкостно правдивы, о гадкой, подлой, но прекрасной жизни — от человека, который смог поставить себя над.
«Небо любит смотреть на большие города, но из больших городов плохо видны звёзды».
«Иной раз свобода слова воспринимается как уравнивание в правах трудолюбивой, гениальной пчелы и тифозной вши».
Случились для меня и открытия: «На букву А в русском языке нет ни одного русского существительного. Всегда слышны корни: латинские, тюркские». То есть даже в алфавите русском «я» — всегда в конце: «Вера выше воли».
За всем этим — очень большая и очень русская душа, много и любившая, и страдавшая, и поныне страстокипящая, но мудрая…
В ней — боль за всех.
И даже грех у Перегудова не такой тяжкий, а может, и не грех вовсе: автор искупает эту вышнюю данность каждою строчкой вместе со своими героями.

