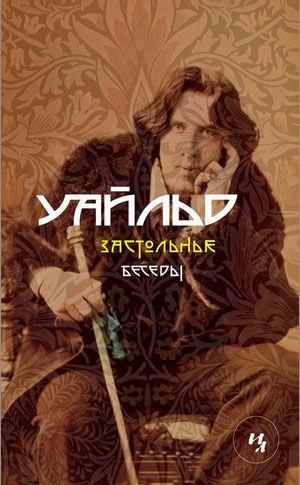3 октября (21 сентября) 1895 года родился Сергей Есенин

В Советском Союзе Есенин был чуть ли не единственным источником, к которому припадала вся наша огромная, нервная, склонная к депрессиям и истерикам и вечно ищущая художественные формы для них народная душа. К его могиле на Ваганьковское кладбище приходили 3 октября алканы — застаканить за Серегу, Сереженьку, Сергея Александровича. «Эх, Серега, — кто-нибудь самый лиричный поднимал слегка запотевший граненый стакан, — поехали!», как будто он погиб только вчера.
Если хочешь почитать…
В начале 1960-х была объявлена подписка на первое (после трёхтомника 1926 года) собрание сочинений в пяти томах (светло-зеленый переплет), и широкая очередь не один день стояла от «Подписных изданий» на Кузнецком мосту чуть ли не до «Метрополя». Эх, Серега… В вагоне метро (допустим, Арбатско-Покровской линии) некто плохо выбритый, со спитым лицом объяснял тому, кто в очках и шляпе, как по-настоящему надо понимать Есенина. В бестолковый разговор ввязывался третий и читал с холодной безуминкой в глазах:
Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался…
(И в самом деле — кто? Да никто практически, никто!)
Школьницы в пору полового созревания переписывали друг у друга из заветных тетрадок: «Девочка, не бойся, я не груб./ Я не стал развратнее вдали./ Дай коснуться запылавших губ,/ дай прижаться к девичьей груди» (наверняка только dubia). Когда хотели сказать что-либо доброе про генсека Брежнева (случалось и такое в номенклатурных кругах), то вспоминали про любовь к стихам Есенина. Нетрудно вообразить бедного Леонида Ильича, после изрядного количества рюмок «КВ» читающего, со слезой на глазах и в голосе, про старушку, которая, возможно, еще жива. И свита, и родня, обслуга и прислуга, тоже едва ли не на последнем рыдании, причем искреннем, шевелили губами в такт — есенинская ритмика легка, как песня.
Василий Аксенов воспроизвел Есенина в виде архетипа коллективного бессознательного в «Затоваренной бочкотаре» (1968). Что-то в таком духе: Идет по росе Хороший Человек, Сережка Есенин. Вы помните, вы все, конечно, помните… Серафима, если что узнаю, не обижайся. Не грусти и не печаль бровей. Шпарит себе по долине. А этого мента, Серафима, я сам, лично… На затылке кепи, в лайковой перчатке узкая рука. И вам, Серафима, пора за дело приниматься. А мой удел катиться дальше вниз… и т.д.
Профессиональные «патриоты» (в параллель школьному официозу) смастерили из его стихов свою лубочную Русь — для валютной «Березки». Любовь к родине, гармонь, околица, туман стелется, хороша была Танюша, просторы, твою мать! Рассея, рожь да васильки… В Перестройку добавили: Бухарин, злые заметки, жиды-комиссары, загубили русского крестьянина, песенную головушку, суки!.. Лубочный Есенин был, конечно, трогателен, но кондов, одномерен и оттого скучен до звона в ушах.
В какой-то момент Есенина стало так много, что фольклор определил это его исключительное место в национальном менталитете в несколько грубоватой, но, в сущности, адекватной форме:
Если хочешь почитать,
Почитай Есенина.
Если хочешь пососать,
Пососи у Ленина.
Это была здоровая реакция того же самого народа на затасканность образца до общего места. (далее…)