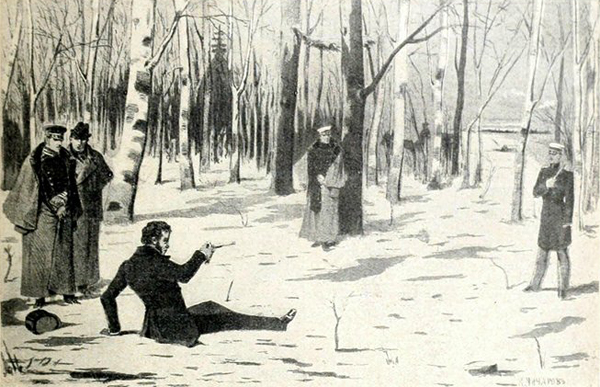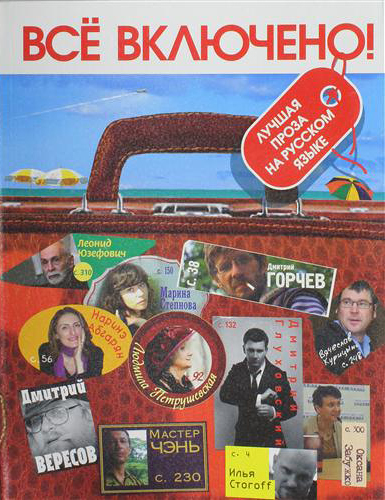Деполитизированная политическая философия Гегеля
Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Философия Когда: 14 февраля, 2013 Автор: Андрей Тесля
Вейль Э. Гегель и государство. Пять докладов / Пер. с фр. Ю.В. Быстрова. – СПб.: Русский Миръ, Владимир Даль, 2009. – 283 с.

1930 – 1950-е гг. во Франции – время взлета интереса к немецкой философии. Начавшись со стажировок молодых французских интеллектуалов в Германии, отправляемых для ознакомления с немецкими неокантианскими исследованиями, и возвращавшихся, усвоив или во всяком случае «впитав витавшую в воздухе» феноменологию и «экзистенц-философию», этот интерес вскоре пошел дальше, точнее к истокам – к немецкой философии 1-й трети XIX века, почти не известной на тот момент во Франции.
Этому способствовал и «левый» политический привкус французской интеллектуальной жизни, усиливающийся в это время – от некоего размытого «социализма» он все больше тяготеет к марксизму, находившемуся в своем «героическом периоде». Обаяние интеллектуальной доктрины, призванной обновить мир и положить «новое начало», не только обещающей перейти в действие, но и осуществляющей этот переход в действительности – вид истории, пришедшей в движение – и притом разумное «новое начало», дающее выход из ситуации абсолютного тупика послевоенной (как вначале казалось, а затем оказавшейся межвоенной) Европы, – этому обаянию было трудно противостоять. Тем более что сам мир на тот момент представал разделившимся на две прямо противостоящих друг другу доктрины – с одной стороны, вызов, брошенный коммунистами, с другой – ответ на этот вызов, данный итальянским фашизмом и другими, родственными ему новыми правыми движениями. То, что оказалось между, представлялось существующим по инерции, межеумочным состоянием, неспособным даже сколько-нибудь внятно дать себе отчет в собственном положении, опирающимся на доктрины, в которое само уже не верило и одновременно не позволяло продумать до конца, довольствуясь формулами, которые можно повторять, не вдумываясь. Что еще важнее – все эти «промежуточные» позиции оказались именно теми, которые привели мир к I-й мировой и оправдывали ее, призывая каждая своих последователей к «священной войне». Основные идеологические позиции, которые привели к мировой катастрофе и освящали европейскую бойню, не выглядели даже в глазах своих собственных сторонников убедительными защитниками мира, такими, которые могут предложить хотя бы «мирное существование»: обыватель больше не мог доверять и верить, что и его обывательские интересы, его повседневность смогут защитить традиционные позиции – и если еще держался за них, то от того, что альтернативы пугали его еще больше (а когда ситуация продолжала обостряться, то выбор его все чаще становился выбором «против», решением о том, какой из альтернатив он сильнее боится). (далее…)