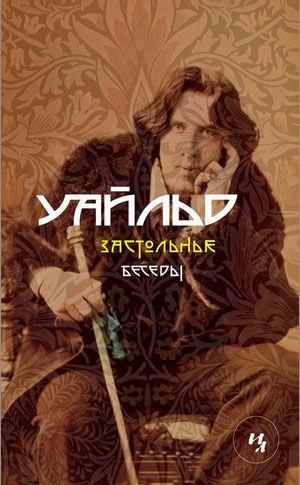Миф и антисудьба Андре Мальро
Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Фото, рисунки и прочее Когда: 3 ноября, 2011 Автор: Анна Александровская
3 ноября 1901 года родился Андре Мальро

-
Справа от меня всегда сидит и будет сидеть Андре Мальро. Присутствие рядом со мной моего гениального друга, поборника высоких предначертаний, создает у меня впечатление, что тем самым я застрахован от посредственности.
Генерал де Голль
Жизнь большинства писателей – материя довольно скучная. Все-таки основное их занятие – писать книги, а оно отнимает немало времени, да и сил. Редко у кого остается энергия для других дел, от общественной деятельности до интимных приключений. И уж совсем немногие задаются целью, подобно Уайльду, превратить свою жизнь в произведение искусства. Тех же, кому – сознательно или нет – удается создать свою легенду, сыграть роман своей жизни, можно и вовсе пересчитать по пальцам.
Один из этих пальцев стоило бы обязательно оставить для Андре Мальро.
Миф
Легенда его жизни начала складываться еще в молодости. Писатель, политик, авантюрист, бунтарь, революционер, герой войны, много раз бывавший на волосок от гибели. Дьявольски удачливый любитель риска. Мечтающий стать героем и избравший образцами для подражания Наполеона и Д’Аннунцио.
Он родился 3 ноября 1901 г. в Париже, в семье банкира. Предки Мальро были фламандцами, дед – разорившийся судовладелец из Дюнкерка. Учился в престижном лицее Кондорсе и Национальной школе восточных языков, изучал археологию и восточные языки, вращался в кругах авангардистов-сюрреалистов, опубликовал новеллу в стиле дада с иллюстрациями Фернана Леже. В 1923 г. отправился в археологическую экспедицию в Камбоджу. Французские колониальные власти обвинили его в попытке незаконно вывести из страны барельефы из древних кхмерских храмов. Мальро был приговорен к трем годам тюрьмы, но благодаря развернувшейся во Франции кампании в его защиту уже через год вышел на свободу. Спустя несколько месяцев вернулся в Индокитай, на сей раз в Сайгон, где основал Лигу молодого Аннама и начал выпускать газету «Индокитай в оковах», обличавшую несправедливые действия колониальной администрации. Побывал он и в Китае, в самый разгар революции, в качестве уполномоченного Гоминдана. (далее…)