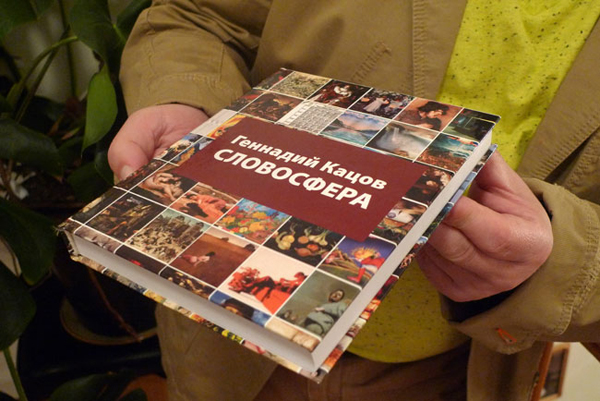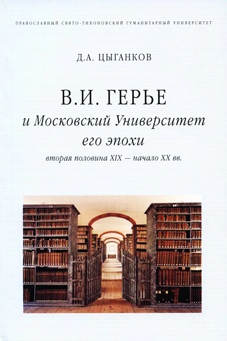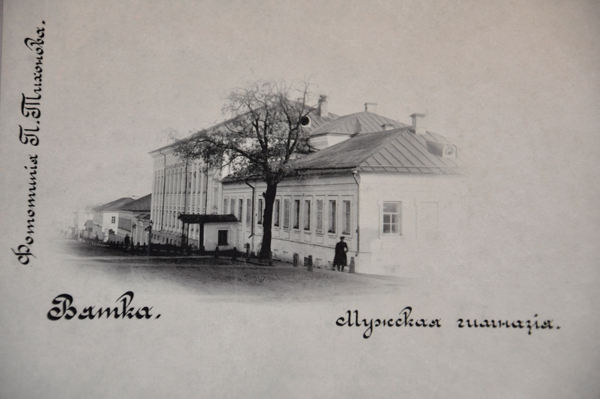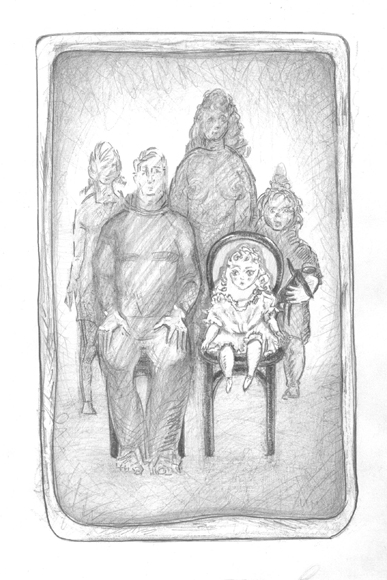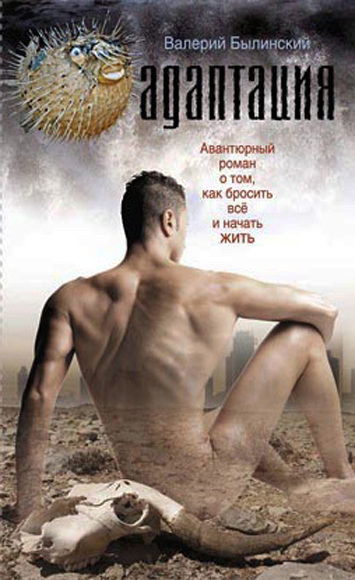Factio occamista*
Рубрики: Культура и искусство, Мысли, На главную, Философия Когда: 5 июня, 2013 Автор: Олег Давыдов, Хабаровский край
От редакции: этот автор никак не связан с постоянным автором Перемен, Олегом Давыдовым (Места силы, Шаманские экскурсы, Дни силы). Это два разных автора.
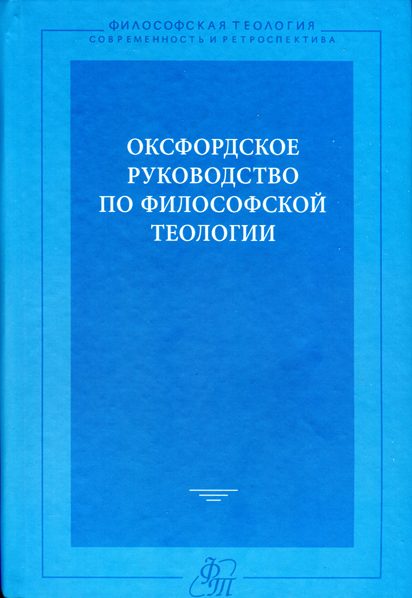
По поводу книги «Оксфордское руководство по философской теологии» / Сост. Томас П. Флинт и Майкл К. Рей; ред. М.О. Кедрова/ ИФ РАН. – М.: Языки славянской культуры, 2013 – 872 с.
Время электронной неразборчивости дополняется повсеместным возвращением духовности. Философия, находясь под влиянием этих изменений, рисует новый образ взаимодействия с вновь обретшей голос сферой религиозного. Схематично этот образ можно описать так: религиоведение — религиозная философия — теология. Предполагается, что при движении слева направо в этой системе координат возрастает степень «субъективности» дисциплины и соответственно, сложность приведения ее в соответствие с образом философии, как строгой науки. В этих условиях, становится более менее ясным то обстоятельство, что для постсоветского сознания само словосочетание «философская теология» выглядит, по меньшей мере, неоднозначно.
По структуре изложения материала рассматриваемое Руководство соответствует антологии, в которой собраны статьи многих авторов, структурированные по основным темам теологии: Божественные атрибуты, Бог и творение и тд. Содержанием является аналитическая традиция философии, знакомая российскому читателю до недавнего времени лишь по текстам профессора университета Нотр Дам А. Плантиги. Однако, серия книг «Философская теология: современность и ретроспектива», издаваемая ИФ РАН, может радикально изменить ритм развития этого направления. Философская рефлексия в рассматриваемой книге избирает полигоном для совершенствования своих практик теологию. Посему можно было бы назвать эту практику скорее теологической философией, чем философской теологией. Составители Руководства благоразумно не отождествляют поле своих исследований с философией религии, ибо последняя занимается феноменологией и герменевтикой сферы религиозного, вместе с тем, они не смешивают его с философским совершенствованием религиозных доктрин, чем, собственно, и занимается теология. Отличительной чертой книги является жесткая специализация авторов, которой в прежние времена нельзя было помыслить и в философии, не говоря о теологии. Одни из авторов специализируются на Божественной простоте, другие – на Всемогуществе, третьи на Таинственности, ревностно охраняя свое поле от вторжения представителей иного «цеха» и стремясь побороть в прениях коллег по собственной тематике. Так, специализация – это постыднейшее следствие необходимости, применяемая к высоким сферам, являет себя «во всей красе». (далее…)