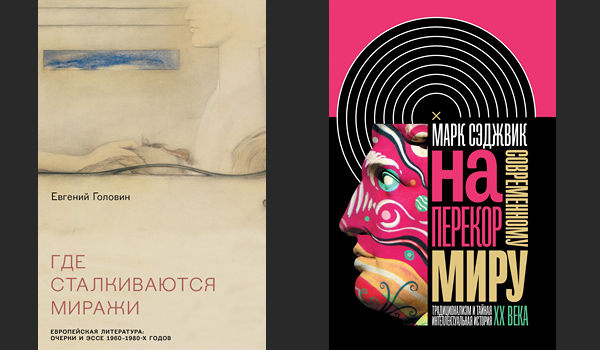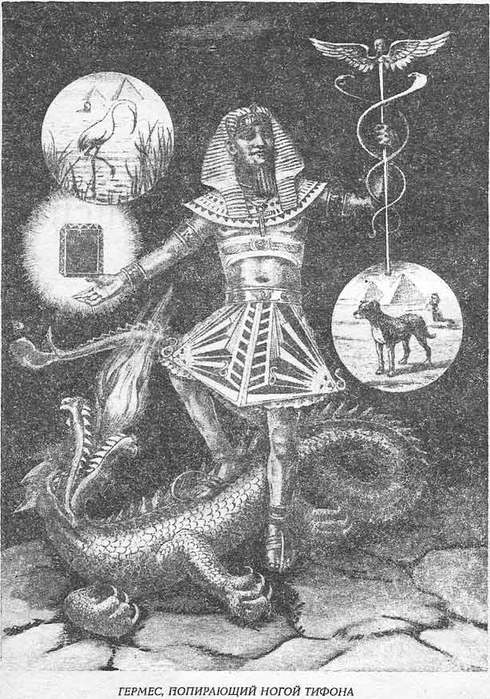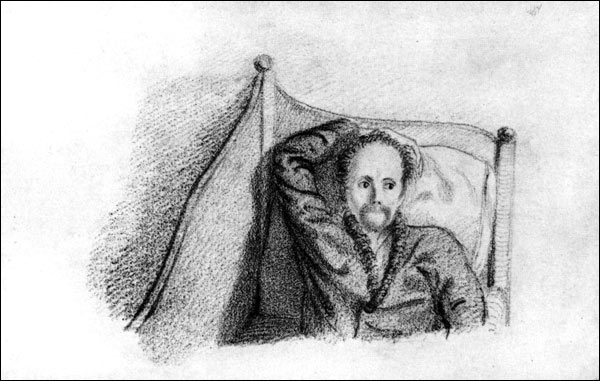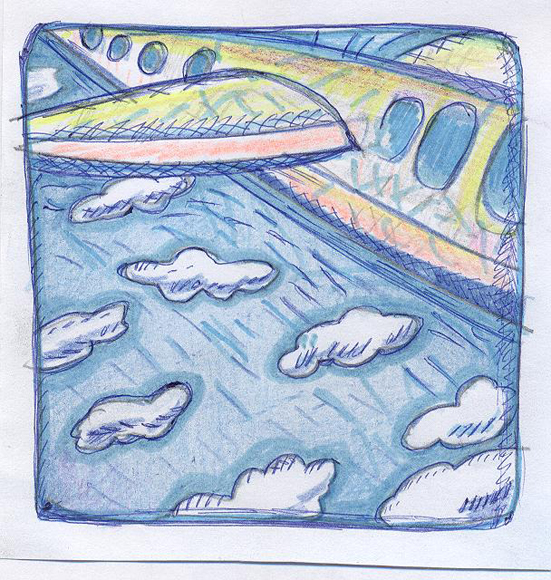Даярам: «Всё, что делает Мастер – это акт милосердия»
Рубрики: Адвайта, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Трансцендентное Когда: 10 июня, 2014 Автор: Михаил Шива

Даярам – реализованный Мастер и духовный учитель, три последних года живущий в России, в городе Оренбурге. Его учение исходит из того же невыразимого измерения, что и учения других Мастеров из разных традиций, таких как адвайта, буддизм, дзен, даосизм, суфизм, христианство и т.д. Для многих духовно ищущих попасть в это измерение — заветная цель. Но, как говорит Даярам, невозможно входить в то, из чего ты не выходил.
Даярам артистичен и талантлив – поёт, играет на разных музыкальных инструментах, в т.ч. на медитативных бамбуковых флейтах, которые с древности изготавливались китайскими монахами для медитаций. Кстати говоря, флейты эти Даярам делает собственными руками. На него интересно смотреть, его интересно слушать. Его речь всегда оригинальна и полна эмоциональных переходов: сейчас он говорит тихо и спокойно, а через секунду может продекламировать что-то грохочущим голосом или разразиться громким, заливистым смехом. Если ты ученик Даярама, тебе придется быть всегда начеку, потому что этот Мастер не позволит тебе «спать». Для каждого у него свой «будильник», и он работает не хуже, чем легендарные палки дзенских мастеров.
Я сижу рядом с ним и чувствую неописуемую яркость восприятия, как будто кто-то включил тумблер осознанности на полную мощность. Его красивый голос энергично и ясно выражает каждое слово, и ты постепенно все глубже впадаешь в состояние «пространственности», из которой твое внимание больше не захватывается приходящими мыслями, и их интенсивность просто сводится к нулю.
Михаил Шива (М.Ш.): В так называемом духовном мире, среди духовно ищущих людей принято говорить об очень высоких вещах и состояниях, но создается ощущение, что после сатсангов и ретритов с просветленными мастерами, ищущие, возвращаясь в обыденность, часто как бы «откатываются назад». С чем это связано?
Даярам (Д.): Потому что не заложен фундамент. В любом дзен-монастыре существует традиция, согласно которой нельзя сразу впускать потенциального ученика на территорию монастыря. Тебе либо скажут, что нет мест, либо что сейчас не время для приема, либо просто не откроют. Так проверяется сила намерения. И даже если ты попадешь в монастырь, тебя не усадят сразу в дзадзен (медитация в традиции дзен, — М.Ш.), а пошлют мыть полы, обрабатывать сад, потом разрешат поучаствовать в ритуальных религиозных действах и т.п. А попасть к Мастеру-дзен на аудиенцию возможно только после прохождения всех этих этапов. Так отсеиваются неподготовленные к принятию истины ученики. Другими словами, если ты не имеешь основополагающей базы средней школы, то куда тебе в университет! (далее…)