
Пушкинский дон Гуан как автопортрет поэта, осознанно бросившего вызов Высшему Закону — Каменному гостю, — чтобы превратить свою жизнь в завершенную трагедию. «Свобода воли дана человеку для того, чтобы сделать собственную судьбу не такой в лоб примитивной, чтобы она не довольствовалась простым: «В лепёшку его!», но вытягивала из жертвы все жилы, жилушки по одной, по другой. Надо, чтобы судьба стала равна по силе и смыслу бессмертной душе. Для поэта это особенно важно – удостоиться частной «с лица необщим выраженьем» судьбы». Эссе Дмитрия Аникина.
ОБНОВЛЕНИЯ ПОД РУБРИКОЙ "ТЕКСТЫ О ЛИТЕРАТУРЕ"

21 ноября 1965 года родилась Бьорк Гвюдмюндсдоуттир. Сегодня ей исполняется 60. О том, кто она такая в контексте поп-музыки, можно прочитать в статье «Внутренняя Исландия Бьорк», опубликованной у нас 15 лет назад, а к нынешнему юбилею Бьорк Глеб Давыдов подготовил стихотворные переводы двенадцати ее ключевых песен.
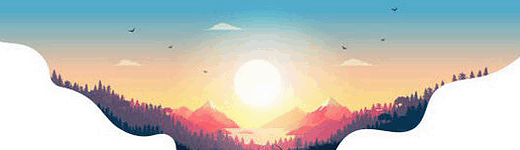
Три незнакомых имени, три книги, бросающие вызов привычной литературе. Текст-путеводитель по миру стихопрозы, фрагментарного письма и афористики. Китайский поэт Си Чуань ведёт из материальной пустыни Гоби в величественную, космологическую грезу, где соседствуют хлев и НЛО. Француз Луи Калаферт — циник, ипохондрик и женолюбец, чьи бойкие, абсурдистские афоризмы складываются в едкое, сюжетное единство о «живой жизни» и «грязном» разговоре. А тексты румынского Кафки, Макса Блехера, — это лихорадочные видения человека, прикованного к кровати. «Своенравные, но живые произведения», тайна и очарование которых заключены в их выпадении из канонов. Рассказывает Александр Чанцев.

В своем новом эссе Наталья Рубанова рисует аналитический и поэтический портрет Анни Эрно, лауреата Нобелевской премии по литературе 2022 года. Автосоциобиографический метод письма Анни Эрно, ее «девичье-пролетарский» опыт и его влияние на её последующую жизнь и сознание. Шокирующая клиническая точность и отсутствии ретуши — это «топор, способный разрубить замерзшее озеро внутри нас» (Кафка). Конфликт между «языком угнетенных» (патуа) и «языком врага» (литературным французским). Эксплуатация и угнетение «второго пола». Жертвоприношение и Стыд.

26 сентября 1959 родился поэт, переводчик и общественный деятель, основатель легендарной рок-группы «Наутилус Помпилиус», а в первую очередь «личность» — Илья Кормильцев. Представляем вашему вниманию интервью с Ильей из Архива «Перемен». Оно сделано главным редактором «Перемен» Глебом Давыдовым в марте 2006 года, незадолго до смерти Ильи. Это одно из последних, если не последнее большое его интервью, и оно во многом не потеряло своей актуальности и сегодня.

7 августа 1921 года в возрасте сорока лет умер Александр Блок. ««Возмездие» и «Двенадцать» – две несравнимые вершины творчества Блока. Вершина истинная, несомненная, несостоявшаяся и вершина излишняя, гибельная, отрицательная, что-то вроде Марианской впадины на просторах поэзии». Дмитрий Аникин показывает, как эти две поэмы повлияли на судьбу самого Александра Блока и на его окружение. Блок как русский Гомер начала XX столетия? «Поэзия – это способ мышления, особый способ постижения реальности. Это не всегда верно для чистой лирики, но крупная форма обязательно требует собственной мысли».

Мотивы Данте Алигьере в рок-музыке — такова тема нового эссе Александра Чанцева, в котором, анализируя символы песни Guns N’Roses «November Rain» и её клипа через интерпретационную призму «Божественной комедии», он вскрывает архетипические темы страдания, ада и поиска искупления, извечно пронизывающие культуру. «Аксель Роуз поет о бренности чувств, и это же одна из центральных тем ада Данте — люди не справляются со страстями, превращая все в порок, в сладострастие и блуд».
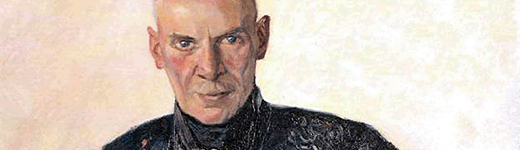
Психологический анализ личности и творчества писателя и мага Густава Майринка в контексте общей психоистории магии. Майринк — один из самых сложных и загадочных творцов XX века. Его визионерские тексты, привлекавшие внимание и массового читателя и таких утонченных интеллектуалов, как К. Г. Юнг, Г. Гессе и М. А. Булгаков, до сих пор полны неразрешенных противоречий и тайн, перед которыми пасуют самые дотошные его биографы. Оставляют они без внимания и эзотерический контекст его произведений, малопонятный даже знатокам оккультного. Дмитрий Степанов предлагает всмотреться в парадоксальный мир Майринка с психологической точки зрения, раскрывая как саму его личность, так и эзотерический код его текстов.

К 225-летию первой публикации «Слова о полку Игореве» представляем новый перевод этого легендарного текста. Перевод предпринял постоянный автор «Перемен» Андрей Пустогаров, присовокупив к нему комментарии, в которых обосновываются некоторые новые толкования темных мест этого литературного шедевра. Во вступлении переводчик приводит свои доводы в пользу тезиса, что это литературный шедевр конца 18 века н.э.
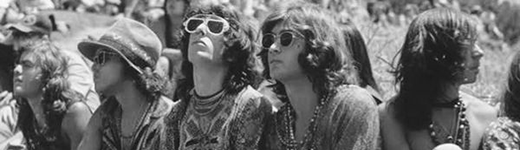
Александр Чанцев размышляет о судьбе хиппи, их внутреннем мире и трансформации, раскрывая концепт «постхиппи». Как меняются люди, придерживавшиеся идеалов свободы и неформального образа жизни, когда их юность проходит? Что происходит с хиппи, когда они взрослеют? Параллель с концепцией «Уход в Лес» Эрнста Юнгера — тихое сопротивление обществу, отказ от насилия и протестов, поиск внутренней гармонии, новой формы свободного существования.
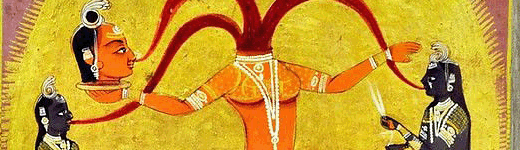
Фантазия и забота о самом себе, — утверждает писатель Андрей Бычков, — роднит адептов «чистого искусства» с адептами духовных практик, позволяя и тем, и другим проникать в высшие чистые миры. Законы постижения и достижения одни и те же. Тантрические методы могут помочь и мастерам слова. Ведь тантра – это «религия абсолютного звука». Поразительное родство «темного» фонологического творчества Джеймса Джойса с «мантраяной» — почти прямое этому доказательство. Обо всем об этом и о практиках использования йога-нидры, таттва шуддхи и других «эзотерических» методов можно прочесть в этом небольшом эссе.
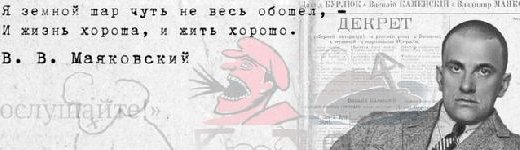
95 лет назад покинул планету один из самых ярких и противоречивых поэтов XX века — Владимир Маяковский. Его творчество, полное мощного голоса, скандалов и новаторства, до сих пор вызывает споры. Был ли он гением самопиара или истинным поэтом? Как его личная жизнь и политические взгляды влияли на творчество? И почему его стихи, такие громкие и революционные, порой оставляют ощущение пустоты? Дмитрий Аникин посмотрел на жизнь и творчество Маяковского и попытался выяснить, что же на самом деле стоит за легендой о поэте, который «сделал жизнь значительно трудней».

Андрей Пустогаров исследует дух интеллектуальной свободы, объединяющий «Гамлета» и «Гаргантюа и Пантагрюэль». Шекспир, предполагает автор, заимствовал свою раскрепощенность у Рабле. О том свидетельствуют многочисленные текстовые параллели между двумя произведениями, общий стиль насмешки над социальными институтами и кое-что еще. Можно ли считать «Гаргантюа и Пантагрюэль» одним из ключевых источников «Гамлета»? В качестве аргумента автор дает сравнение сонета Шекспира с отрывком из романа Рабле и напоследок, чтоб уж совсем наверняка не быть голословным, проводит параллель с романом Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

Александр Чанцев рассказывает о журнале, который тянет на полноценную книгу, а именно — о третьем номере журнала «Перевод». 290 страниц. Журнал посвящен, собственно, переводу, и прежде всего — поэтическому. В этом номере есть и переводы современного тибетского поэта, и перевод Пушкина с латыни, и религиозная поэзия Милорада Павича. Есть и рефлексия над переводом – и тем очень многим, чему он служит и на что выводит.

Андрей Пустогаров рассматривает неожиданно обнаруженное им сходство двух культовых женских образов мировой литературы — Кармен из новеллы Проспера Мериме и Настасьи Филипповны из романа Достоевского. Более того, не только в характерах и судьбах героинь есть общие черты. Сходство прослеживается и в эволюции их образов в различных интерпретациях — от оперы Бизе до фильма Пырьева и балета Щедрина.

Эссе Дмитрия Аникина о Константине Бальмонте. Преисполненный безвкусицы графоман или инопланетный гений? «Трудно относиться к Бальмонту серьёзно. Поэту не к лицу быть слишком поэтичным. И вся атмосфера вокруг него была какая-то неестественная — пьеса жизни, поставленная бездарным режиссером». Достаточно ли быть только поэтом, чтобы быть поэтом?

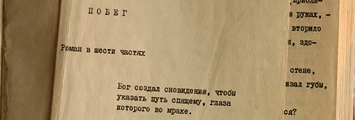
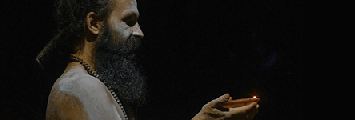
 Несколько лет Олег Давыдов странствовал по русским монастырям в поисках мест силы, изучал, фотографировал и фиксировал свои находки, разбирая историю каждого места, жития святых, связанных с этим местом, и другие источники. Мистическая география России - суть настоящего проекта. 111 мест силы Русской Равнины.
Несколько лет Олег Давыдов странствовал по русским монастырям в поисках мест силы, изучал, фотографировал и фиксировал свои находки, разбирая историю каждого места, жития святых, связанных с этим местом, и другие источники. Мистическая география России - суть настоящего проекта. 111 мест силы Русской Равнины. «Аштавакра Гита» — один из классических индийских текстов, сконцентрировавших в себе мудрость учения Адвайта-веданты (недвойственности). Его рекомендовали к прочтению такие великие духовные учителя как Рамана Махарши, Ошо и Рамакришна. Перевод Глеба Давыдова — это первый перевод «Аштавакры» с сохранением изначального санскритского стихотворного размера.
«Аштавакра Гита» — один из классических индийских текстов, сконцентрировавших в себе мудрость учения Адвайта-веданты (недвойственности). Его рекомендовали к прочтению такие великие духовные учителя как Рамана Махарши, Ошо и Рамакришна. Перевод Глеба Давыдова — это первый перевод «Аштавакры» с сохранением изначального санскритского стихотворного размера.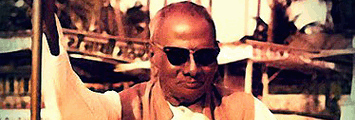 Перевод последних бесед индийского Мастера недвойственности Нисаргадатты Махараджа. В течение последних двух лет своей жизни Махарадж совсем не уделял внимания вопросам, касающимся мирской жизни и её улучшения. Он учил лишь высочайшей истине, и по причине слабости тела в некоторые дни говорил совсем мало. Но даже всего-навсего одно предложение было подобно Упанишадам.
Перевод последних бесед индийского Мастера недвойственности Нисаргадатты Махараджа. В течение последних двух лет своей жизни Махарадж совсем не уделял внимания вопросам, касающимся мирской жизни и её улучшения. Он учил лишь высочайшей истине, и по причине слабости тела в некоторые дни говорил совсем мало. Но даже всего-навсего одно предложение было подобно Упанишадам. Книга Олега Давыдова о великом психотерапевте и шамане Карле Юнге. Внутренняя алхимия, визионерская "Красная книга", загадочные практики и сны, исполненные знаков из потустороннего мира, их толкования. Пограничные состояния, рискованные интерпретации и странные отношения с Зигмундом Фрейдом.
Книга Олега Давыдова о великом психотерапевте и шамане Карле Юнге. Внутренняя алхимия, визионерская "Красная книга", загадочные практики и сны, исполненные знаков из потустороннего мира, их толкования. Пограничные состояния, рискованные интерпретации и странные отношения с Зигмундом Фрейдом.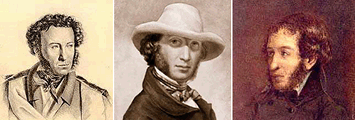 Психоанализ жизни и творчества А.С. Пушкина, основанный на грезах его поэзии и на свидетельствах современников о некоторых странностях поведения Солнца русской поэзии. Текст написан с любовью к Пушкину и его произведениям, но ярым фанатам Александра Сергеевича лучше его не читать.
Психоанализ жизни и творчества А.С. Пушкина, основанный на грезах его поэзии и на свидетельствах современников о некоторых странностях поведения Солнца русской поэзии. Текст написан с любовью к Пушкину и его произведениям, но ярым фанатам Александра Сергеевича лучше его не читать. Серия интервью-сатсангов, в которых Ма Деваки, ближайшая ученица индийского святого и гуру Йоги Рамсураткумара, рассказывает о его жизни, транслирует его учение и проясняет многое насчет того, кто такой гуру, говорит о различных духовных практиках, служении и других вещах, которые важно знать всем, кто находится на пути духовного поиска.
Серия интервью-сатсангов, в которых Ма Деваки, ближайшая ученица индийского святого и гуру Йоги Рамсураткумара, рассказывает о его жизни, транслирует его учение и проясняет многое насчет того, кто такой гуру, говорит о различных духовных практиках, служении и других вещах, которые важно знать всем, кто находится на пути духовного поиска.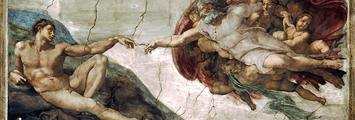 Эссе Глеба Давыдова о сущности и значении искусства в жизни человечества. Попытка разгадать тайну того воздействия, которое оказывают произведения искусства на нашу жизнь. Что можно считать настоящим искусством, а что нет? Взгляд на искусство через адвайту. С примерами из классической литературы.
Эссе Глеба Давыдова о сущности и значении искусства в жизни человечества. Попытка разгадать тайну того воздействия, которое оказывают произведения искусства на нашу жизнь. Что можно считать настоящим искусством, а что нет? Взгляд на искусство через адвайту. С примерами из классической литературы. 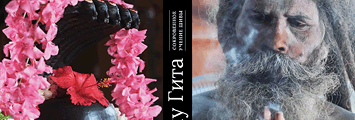 Этот эквиритмический перевод, т.е. перевод с сохранением ритмической структуры санскритского оригинала, читается легко и действует мгновенно. В «Рибху Гите» содержится вся суть шиваизма. Бескомпромиссно, просто и прямо указывая на Истину, на Единство всего сущего, Рибху уничтожает заблуждения и «духовное эго». Это любимое Писание великого мудреца Раманы Махарши и один из важнейших адвайтических текстов.
Этот эквиритмический перевод, т.е. перевод с сохранением ритмической структуры санскритского оригинала, читается легко и действует мгновенно. В «Рибху Гите» содержится вся суть шиваизма. Бескомпромиссно, просто и прямо указывая на Истину, на Единство всего сущего, Рибху уничтожает заблуждения и «духовное эго». Это любимое Писание великого мудреца Раманы Махарши и один из важнейших адвайтических текстов.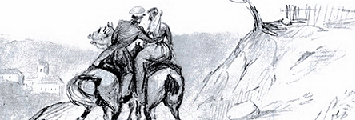 «Очерк по вершинной психологии». О странностях судьбы и особенностях характера Михаила Лермонтова. Дмитрий Степанов показывает, как жизнь Лермонтова была предопределена его воспитанием и взрослением. И дает ясные иллюстрации того, каким образом страхи и выверты характера Лермонтова проявляются в героях его произведений.
«Очерк по вершинной психологии». О странностях судьбы и особенностях характера Михаила Лермонтова. Дмитрий Степанов показывает, как жизнь Лермонтова была предопределена его воспитанием и взрослением. И дает ясные иллюстрации того, каким образом страхи и выверты характера Лермонтова проявляются в героях его произведений.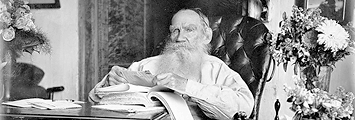 Лев Толстой и самореализация (просветление). Тема почти не исследованная. Глеб Давыдов изучил дневники Толстого последних лет его жизни. Из них ясно, что Толстой практиковал самоисследование - почти в той форме, в которой его дал миру в те же годы Рамана Махарши. Насколько же далеко продвинулся в этом писатель?
Лев Толстой и самореализация (просветление). Тема почти не исследованная. Глеб Давыдов изучил дневники Толстого последних лет его жизни. Из них ясно, что Толстой практиковал самоисследование - почти в той форме, в которой его дал миру в те же годы Рамана Махарши. Насколько же далеко продвинулся в этом писатель?