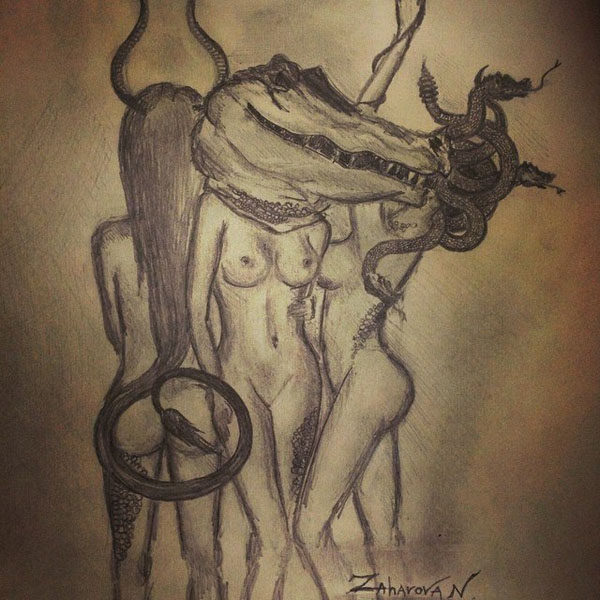Счастье было вчера или будет завтра…

В человеке заложены огромные возможности. Великие возможности. В том числе способность восхищаться. А значит, должно быть что-то такое в мире, «соизмеримое заложенной в нем способности». У человека появляется мечта.
Такие люди, как Гэтсби – редкость. Как редкие бабочки для знатока. Но только никто не называет бабочек великими. Гэтсби потому и велик, что сумел воплотить возможности, соответствующие своей мечте. Будучи по общественному и материальному положению гораздо ниже, чем та же Дэзи, он сделал себя сам, начиная с имени и заканчивая смертью. В нем был такой «романтический запал», которого хватило бы на многих, но сосредоточился он в одном человеке. (далее…)
Оставить комментарий »
Рубрики: Грёзы, Литература, Опыты Когда: 12 августа, 2015 Автор: Михаил Глушецкий

Пусть я живу на самом на краю города, прямо у леса, живу уединенно и до такой степени отграничивая себя от всех, что прежде чем выйти за ворота, всегда высматриваю через дыру в заборе, нет ли кого поблизости из соседних домов, и если есть, жду, пока те уйдут, чтобы не пришлось здороваться, пусть так, — но когда в наш город приходит этот Благословенный Хор, как я их называю, когда эти люди в огненных одеяниях начинают свое шествие по центральной площади (я так и не узнал, откуда именно они являются — должно быть, с южной стороны шоссе), поджигая прямо на ходу чучела коз, единорогов, соломенные фигуры людей, слегка режут свои ладони, а затем со смехом размазывают кровь друг об друга, и каждый, будь то мужчина или женщина, снимает с себя испачканную таким образом одежду, да бросает в эти передвижные костры, — и все это лишь затравка, маленькая репетиция перед тем грандиозным действом, в котором наши гости приглашают поучаствовать любого без исключений жителя города; когда, наконец, этот хтонический в своем первобытном безумии гам, неизменно исходящий от веселого шествия и кажущийся столь нераздельным от них, как, например, жар неотделим от костра (и меньше всего мне бы хотелось вновь увидеть их идущими в полном молчании, лишь под медленный стук барабана), когда весь этот шум доходит и до моих ушей, я непременно выхожу к ним навстречу. (далее…)
Оставить комментарий »
В сознании как бы сокрыто ещё сознание. Это сознание
в сознании подобно мысли, предваряющей все
слова и образы.
Гуань-цзы.
Все методы медитации предназначены для раскрытия познающего.
Ошо
Великий Путь всегда пребывает между присутствием
и отсутствием.
Из «старинных трактатов»
Промежуток – это музыка всех истин.
Чжоу Гунчэнь. Начало XX в.

«Промежуток», «зазор», «разрыв» – обозначение одного и того же понятия, важнейшего во внутренней работе. Только там дверь в Космос и свидание с ним.
«Вот почему нужен разрыв: чтобы старое исчезло и вошло новое. В них нет никакой непрерывности… Это разрыв…» (Ошо, т.1, с 17)
«Мысли исчезают, появляются зазоры. Безмолвие! Вы касаетесь своей собственной глубины… Когда вы обрели такую радость, которая не уходит, – обстоятельства меняются, а радость не уходит». (Ошо, там же, т.III, с.221, 223)
Мне самому почти нечего сказать по этому поводу. Феномены, которые со мной случались, я описал в прежних своих текстах. Первый ощутимый прорыв был на физическом плане (см.1. «Прикосновение»), но чаще присутствие зазора и связанных с этим явлений ощущалось всё же на плане ментальном (см. 7-10, 12, 16). Остаётся безоговорочно довериться учителям и ждать прогресса в собственных усилиях. Ниже я даю сводку в цитатах из нескольких источников: Ошо «Избранные беседы», т.I, III; В.В. Малявин «Сумерки Дао» и «Боевые искусства». (далее…)
Оставить комментарий »

1.
Сейчас, на фоне изменившейся жизни и в свете современных научных знаний довольно трудно представить, что человека неотступно, словно тень, преследует мертвый.
Однако Володя Литвак имел возможность убедиться, что подобная ситуация не менее реальна, чем заметенные пыльной листвой улочки его родного Солдатска. И вот однажды, чтобы рассеять последнее сомнение, Володя задержался как бы случайно около уличного фонаря и слегка повернул голову. (далее…)
Оставить комментарий »
Однажды в начале осени, под желтеющим вечерним небом, произошла такая история.

Николай Сергеевич Жуков, школьный дворник, с виду силач и богатырь, оказался в плену у Летучего зверя-налима. Пожалуй, стоит описать обоих участников этой встречи, иначе представить ее непросто. Жуков был, несмотря на высокий рост и покатые, как холмы, плечи, побит и потрепан жизнью: имел один глаз, неполный комплект пальцев на левой руке и клочковатые, как старый мох, волосы, неровно покрывавшие голову; к тому же изо рта его несся дух могилы – по-видимому, из-за некачественного питания и пристрастия к алкоголю.
Надо добавить, что лицо дворника имело цвет второсортной бумаги, а под глазами лежали желтоватые круги. Но внешняя ущербность с лихвой компенсировалась качествами души и характером дворника. Больше всего на свете Жуков любил размышлять и, случалось, стоял столбом посреди пустынного школьного двора, будто мысли налетели на него, подобно шквалу ледяного ветра. Размышления настигали его на работе и дома, в любую погоду, а иногда в глухой ночной час. Никто толком не знал, о чем таком размышлял дворник – но свидетелей его дум хватало. (далее…)
Оставить комментарий »

«Христос пленит левиафана». Фрагмент иконы «Воскресение с праздниками».
В детстве я был так счастлив, когда оказывался с отцом на птичьем рынке! Аквариумисты как художники на выставке. Каждый художник у своей работы стоит, а на картинах – рыбки плавают цветные. Став чуть старше я заметил, что и у голубятников – своя улица с проулками, эпоха с датами. Голуби в огромных клетках, в открытых коробках гофрированных, сеткой обернутых, и даже в портфель какой-нибудь полуоткрытый заглянешь, а там голубь спит, в белый шар свернувшись.
Голубиная книга. Есть глаз соломенный, есть винный… Соколявый бъет, бывает, но гонец хороший не умирает, зайдет на страшной высоте за светлую тучу и, представляя, что туча это земля, медленно уйдет вместе с тучей, в небе растворившись. Бывало, придет гонец, сильный, чистый, а ты в глаза смотришь ему, насмотреться не можешь… (далее…)
Комментарии (1) »
Город Солдатск Северо-Вышкинского района стоит на берегу безымянного озера.

Больше половины года озеро укрыто слоем грязно-серого льда, похожего на мятое покрывало. Дорога через ледяное поле на другую сторону недлинная – примерно километр. Десять минут ходу по окаменевшему снегу. Но вот стали вдруг про это озеро врать. Обросло озеро прочной паутиной аргументов и фактов, точно травою морскою.
Бабы, одуревшие от скуки на городском рынке, двигая огромными плечами, побожились, что по ледяной озерной тропе из города и обратно следуют мертвые люди. Куда же они идут? Кто куда, надо полагать. Одни вон из города, а другие наоборот. (далее…)
Оставить комментарий »

Знакомого Л. я заметил с поворота, когда мой жёлто-салатный теннисный мяч с хрустом отскочил от гравия центральной аллеи Марсового поля, где та делает резкий, на девяносто градусов поворот к Лебяжьей канавке, и влип намертво в челюсти моей вёрткой коричневой суки: чпок.
Л. лежал, распластавшись большой чёрной ящерицей, на кряжистой ветке старой сирени слева от аллеи. На Л. был странный чёрный комбинезон с множеством карманов. Ноги Л. были скрещены: одна рука прикрывала лобок, как у Рафаэлевской Венеры; другая была манерно закинута за голову. Он делал вид, что не замечает меня. Хотя вся вычурная непринуждённость и изысканность его позы убеждали в обратном. (далее…)
Комментарии (1) »

Все сложности когда-нибудь разрешаются. Так было и с этой моей загадочной неспособностью свободно передвигаться, то есть просто ходить.
В «Прикосновении» шла речь о левой лодыжке. Теперь взбунтовалась правая, и не лодыжка, а вся стопа. Две кошмарные ночи и третья полегче. Правая стопа не дышит. Прокачаешь, стоя в У Цзи, вроде заработала, начинаешь засыпать и чувствуешь, как она опять становится деревянной и холодной. Через полчаса-час просыпаешься от страха: стопа неживая – холодная, набухшая, ничего не чувствует. (далее…)
Оставить комментарий »
Рубрики: Будущее, Грёзы, Люди, Мысли, На главную, Опыты, Перемены, Прошлое, События, Трансцендентное Когда: 1 января, 2015 Автор: admin
Прогноз Бронислава Виногродского

Традиционно под Новый год портал «Перемен» публикует прогноз Бронислава Виногродского. Следующий год будет годом деревянной козы. Посему внимаем прогнозу Виногродского: (далее…)
2 комментария »

Не две ли малые птицы за копейку
можно было купить в воскресенье
на Таганке, в левом углу…
Никифор с Дуней по грибы пошли, Никифор красноголовиков нашел, а она по полянкам бегала, устала, у Дуни в лукошке – голубые цветы, нежные голубки.
Черный дрозд рассмеялся, или это певчий дрозд так смеется? Никифор пытается найти среди ветвей птицу и разглядеть, но дрозд уже перелетел на другую сторону поляны и рассмеялся там в два раза тише. Дроссель.
Пеночка трещотка. Луговой конек. Зарянки с разных сторон рассыпают свои серебряные бубенчики, и вдруг как огромное невиданное дерево в этом раю звуков быстро и уверенно прорастает веселый вальс. (Народная, веселая музыка, бабушка вальса.) Звуки вальса нарастают, нависают могучими ветвями, и на поляну выкатывает необыкновенная кавалькада. (далее…)
Оставить комментарий »
Рубрики: Грёзы, Литература, Люди, Опыты, Прошлое Когда: 25 ноября, 2014 Автор: Андрей Бычков

1.
Когда-то, еще до разложений, до разломов, в постижении вечных смыслов сознаний, в попытке найти ту единственно верную интонацию себя, странную веру в свое избранничество, когда будущее еще кажется непреднамеренным, когда радостная серьезность жизни еще не пронизана мыслью, а представляется существованием, когда вечерний свет солнца из-под листвы, трехколесный велосипед, дача, утопающая в сирени, вечерний шелестящий полив растений…
Он посмотрел на портреты классиков на стене (он распечатывал их фотографии и прикреплял иголками к обоям), не спеша допил кофе и… все же решил уехать. Да, стать другим, пусть и на один день. А Кларисса и все остальное — грядущее и навязанное, — в конце концов, подождет.
Через час он уже мчался на загородном шоссе. И ему нравилось снова чувствовать себя слегка старомодным в этой своей старомодной машине, и он вдруг действительно обрадовался, что уехал из Москвы. Шоссе с повышением скорости настраивало на сентиментальность.
Солнце было еще высоко, когда он уже подъезжал к деревне, взбирался «на второй» мимо карьера, безжалостно разрытого двумя ржавыми экскаваторами, обычно гремящими на все окрестности. Но сейчас было тихо, и даже экскаваторы, чем-то похожие на огромных замерших жуков, не так уж и оскверняли своим присутствием приглушенный осенний пейзаж, слегка однообразный в своем коричневом и сером, почти без листьев. Разве что кое-где было пронзительно тронуто желтым. И в этой безымянности словно бы еще оставалась какая-то странная надежда… (далее…)
Оставить комментарий »

– А если я к десяти вечера подойду, ничего?
– Что надо! Раньше тут и делать нечего. Вот сюда, по натоптышу, и в левое оконце три раза бемц. Я пойму – свои! И открою.
Мужчина лет за сорок, в телогрейке поверх добротной «Аляски» и больших серых растоптанных валенках манерно, по-блатному, двумя пальцами, выцапал изо рта папироску и смачно отщелкнул окурок:
– Деньги как уговорились.
– А фотографировать можно?
– Можно, если охота. А только всё зря: что на плёнку, что на симку, что на Нинку, – он хихикнул. – Не бёрёт нихрена. Муть будет одна, как в телеке, когда антенну выдрать.
– А они что, и зимой прут?
– Прут! Им что? Они ж не деревья. Гипербола сознания, как тут один умник выдал. – В телогрейке с раздражением вкрутил бычок в жухлый утоптанный снег. – Так прут, мать их, что хруст стоит, – он как-то безнадежно-горестно мотнул башкой и зло цыкнул под ноги: — На девятый и сороковой. Понял. (далее…)
Оставить комментарий »
коктебельский текст

Ибо чара – старше опыта,
Ибо сказка – старше были.
Марина Цветаева. Пушкин и Пугачёв.
Этa печaть коктебельского полдневного солнцa – нa лбу кaждого, кто когдa-нибудь подстaвил ему лоб.
Марина Цветаева. Живое о живом.
Максимилиан Александрович Волошин в 1903 году купил участок земли у коктебельского залива, на изгибе морского берега, который был тогда незаселённым, пустынным, без зелени — кроме редких кустов терновника, чертополоха и полыни, ничего здесь не росло. Он по своим чертежам построил «Дом поэта» (строил долго, десять лет) с монолитной под добротной черепичной крышей башней, выдвинутой к морю. Вокруг башенного полукруга расположились четыре узких, длинных полуциркульных окна с нарисованными Волошиным в верхних «полукругах» солнечными символами-кругами со стрелами-лучами, глядевшими внимательно и неподвижно в беспредельную синеву моря.
Дом Волошина и поныне стоит у изгиба-лукоморья, и, когда солнце врывается в башенные окна, то из стёкол как будто бы высекаются искры, и пылинки кружатся-плутают вокруг волошинских солнечных символов.
Поэт-странник-художник-философ уверовал в то, что его быт и бытие предопределены в Киммерии, как он называл этот уголок восточного берега Крыма, где повсюду в стёртых камнях и размытых дождями холмах бродят тени Одиссея, Орфея и Гермеса. «Одиссей возвратился, пространством и временем полный»2, — так мог бы сказать Мандельштам и о Волошине тоже. «Истинной родиной духа для меня был Коктебель и Киммерия – земля, насыщенная эллинизмом и развалинами Генуэзских и Венецианских башен3, — записал Волошин в одной из своих многочисленных автобиографий. (далее…)
15 комментариев »
Когда-то я думал, что неплохо бы стать в следующей жизни собакой.
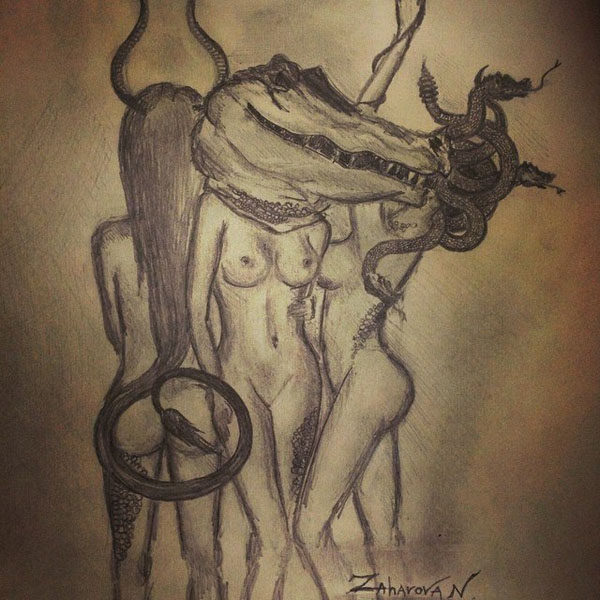
…Таким веселым английским кокером, который бегает по двору, догоняя свои уши. Всегда рад хозяину, рад почти всему, быстро живет и скоро умирает, делясь этой радостью. Или я думал, что хочу.
Она медленно идет от подъезда, огибает дом. Улыбается немного, покачиваясь крупным тазом. Она близка к пятидесяти, много лишних килограммов на ней. Из тех полных, которые, кажется, всегда должны быть веселыми, добрыми и не восприниматься всерьез. Они такие и есть – уж коли ждут от тебя, удобно быть в нише, уютненькой, это сговор тебя и мира, капают за это небольшие проценты. (далее…)
3 комментария »